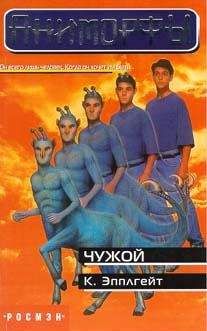Светлана Метелева - Чернокнижник (СИ)
Я молчал. Один раз спросил — кто приходил к ним в группу, откуда? Ответ оказался вполне предсказуемым: пацаны-малолетки — мать-пьет, отец-пьет. Привел в пример какого-то Кондратьева — пришел в банду оборванным, худым, голодным…
— У нас поднялся. Стал лучшим спецом по маскировке. Однажды переоделся в нищенку, пристал у ресторана к «объекту»: подайте на хлеб, дяденька… В следующий раз уже с коляской пошел. Там под одеяльцем с розовым бантиком автомат лежал и полный рожок… В смысле — чем кончилось? Убил. У нас, Боря, по-другому не кончалось.
… Надо было, наверное, ужасаться. Но ужаса не было. Как будто… Да, как будто книжку прочитал. Сюжет средний, повороты банальные. Боевик. Или — плохой детектив. Обязательная «крыша» из комитетчиков, реки крови, мальчик, переодетый в девочку и автомат в детской коляске. Это — Женя…
— Кстати, знаешь, какой фильм был обязательным для просмотра? «Лики смерти» Алана Шварца. Глубокая такая картина. Философская…
Всплыло в памяти — Habent sua fata libelli. Эту фразу любил повторять к месту и не к месту Соловьев, щеголяя латынью.
И книги имеют свою судьбу.
Глава 5
Апрель — июнь 1996 года.
…Прошел дождь. Долго смотрел, как застывают на мгновение капли с той стороны стекла — и спешат вниз; то медленно, то вдруг ускоряясь, точно в последнем отчаянном рывке. Мир устроен совершенно. И ничего в нем менять не надо. Монах Умберто все-таки понимал мироздание не до конца. Порой для того, чтобы создать или уничтожить, вовсе не требуется Слова. Достаточно одного намерения. Желание непременно изменить мир к лучшему — не это ли первый шаг к Апокалипсису?
Почему-то был уверен: после необъяснимого своего спасения, после явленного мне безусловного милосердия Божьего — все изменится. Сразу. Жизнь пойдет по-другому. Мысли станут возвышенными; я пойму главное; озарит — и решу, что теперь делать и куда идти дальше.
Но оказалось — не так. Не было новых событий. На страницах моей книги не появилось новых слов. Наверное, я сам должен написать их, но — откуда взять? Где услышать? Я чувствовал: все происходит точь-в-точь как с человеком, который каждую неделю начинает с чистого листа. Он бы и бросил курить, и делал бы пятнадцатиминутную пробежку, и на диету бы сел, и работал бы по-другому… Но — запала хватает только до вечера понедельника. А потом затягивает привычное. Обыденное. Вчерашнее. И — все, позыв пропал.
Так и я. Разборки вокруг — те же. Лица — такие же. И, значит, главное сейчас — не потерять в будничном, в тюремном, в окружающем то сокровенное, что подарено. Значит — следить за собой…
Ночь. Смотрим по ящику программу с чудным названием — «Партийная зона». Почему-то танцуют. Непонятно. У меня с этими двумя словами связаны другие картины. Вспышками — Краслаг, холод, снег, круги прожекторов. И Брежнев. Перед праздничным шмоном долго думал, куда спрятать доллары. Заклеил в небольшую брошюрку «Послания апостолов». Теперь мучаюсь: правильно ли спрятал? Наверное, надо было все-таки найти другое место…
«…Ибо когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел.
И, придя, находит его выметенным и убранным.
Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там — и бывает последнее для человека хуже первого»…
Если бы так же легко приходили эти слова на свободе, сейчас не пришлось бы деньги прятать…
А ведь год назад Библии у меня были на всех языках. Пятнадцатого века, семнадцатого… Здесь, в камере, тоже есть — современные, одна с проставленными ударениями. Жутко мешает. Книги раздают благотворительные организации. Адвентисты какого-то дня. А может, и путаю. Почему-то вспоминаю уличного проповедника, что встретил на Арбате — тогда, в мае, в другой жизни. Слышу: в начале было Слово, и Слово было у Бога…
Вспоминаю безумный прошлый год — и становится страшно. По-настоящему страшно. Спрашиваю: что лучше? Та ли свобода, что была? Или — тюрьма? И всякий раз отвечаю: конечно, тюрьма. Впервые задумался: даже пять лет — многовато для меня. Но, наверное, каждому свой срок кажется большим.
Я жив, я другой, но — какой? Раскаявшийся грешник? Примитивно и — верно. Но — что дальше? Что должно отсюда следовать? Я только сейчас понял: раньше точно плыл по течению, шел в общей шеренге — в той, которую составляют воры и аферисты. А рядом, в другой шеренге — шагали потенциальные воры и аферисты. Те, кто не крал и не мошенничал — по слабости, из страха или по причине жесткого присмотра. А теперь я как будто сделал шаг — небольшой, крохотный — в сторону. И пытался оглядеться, осмыслить, представить… И тут же понял: осознать самого себя вне окружающей жизни — невозможно. Нереально. Сотню лет в вакууме может существовать разве что черный полиэтиленовый пакет.
А его-то и не было. Монах сжег.
* * *Приснился сон — не кошмар, но отвратительный. Будто я, почему-то с Соловьевым, взламывал антикварное хранилище. Соловьев, поправляя очки, пел. Замок долго не поддавался, потом все пошло, и вот, довольные, мы вваливаемся. А там — собрание трудящихся. И решают они один вопрос — брать или не брать. И я чувствую, что всем хочется брать, но не решаются. И Соловьев проходит к трибуне со стаканом воды и заявляет — не надо вам брать, ведь тут Горелов. Он возьмет. Он один знает, как. А потом отдаст всем нам. Не мучайтесь, он правильно спрячет. А вы найдете это место. А я стоял рядом с ними, слушал — и думал: как же получается у меня воровать ночью, если это и днем невозможно? Проснулся с ощущением духовной тошноты. Мутит — от самого себя. Когда же понял, что — был сон, а на самом деле — все в порядке, я в тюрьме, — очень обрадовался.
* * *…Наша камера — в отличие от многих — похожа на человеческое жилье. Нет клопов, вшей, никто не болен чесоткой. Икона в углу. На общем корпусе — в отличие от нашего, специального, — количество людей превышает все мыслимые нормы. Пару дней назад закрыли на карантин сто тринадцатую камеру. Туберкулез. В камере было девяносто человек. Такого я еще не слышал.
Правда, туберкулез здесь — дело обычное. Заболевают почти все. Но раньше карантин никто не устраивал. А сейчас что произошло? Туберкулезное отделение больницы переполнено в два раза. Отделение для хронических больных занимает целый этаж. Не поддается логике — почему больные содержатся в худших условиях, чем здоровые? С другой стороны, если отдашь под больных камеру, здоровых там уже не разместишь. Можно решить проблему, выпустив под подписку тех, у кого статья позволяет. Ведь полтюрьмы сидит черт знает за что! Вот вчера появилось еще одно чудо в нашей камере. Вдвоем с подельником украл на рынке сумку, стоимостью пятьдесят пять тысяч рублей. Вот этот человек — и ему подобные — лишние люди, в полном смысле. Тупая арифметика: украл на пятьдесят пять штук, вещь при этом сразу продавцу возвращена (их там же и поймали), а — сколько на него будет потрачено денег и времени, пока сидит? Даже если продержат недолго — все равно, влетит государству в копейку. А сколько здесь таких? Полно. Плюс наркоманы. Набьют тюрьму кем попало; с весны до осени часть умрет…
Славик процитировал недавно фразу из новостей: генеральный прокурор России Скуратов посетил «Матросскую тишину» — и пришел в ужас. Это должно быть поучительно — ужас прокурора. Да — после его ужаса никаких изменений не последовало…
* * *…Скоро отправлю Кирюху на суд — и попробую заснуть. В шестнадцать вместе с приятелями грабил прохожих возле метро — сейчас ему восемнадцать. Судят его и еще одиннадцать подельников. Больше всего стыдится статьи: «какая-то лоховская, вот киллер — это да!». Женька услышал — по-моему, готов был набить ему морду. Потом надолго замолчал. Лег, отвернулся к стенке…
Сегодня — Кирюхина очередь давать показания в суде. Что говорить — не знает, не в курсе. И каждое слово может быть использовано против.
— Кирюха, слушай внимательно. Говоришь судье, что за два года, которые пришлось ждать суда, ты вырос. Понял? И теперь тебе стыдно за содеянное…
Улыбается, кивает головой. Стыдно ему, да. Лишь бы не поделился с судом, чего стыдится.
— Главное, — повторяю раз в тридцатый, — не развивай тему. И по пути таблеток никаких не глотай. У твоих, по-моему, уже были проблемы из-за этого. Короче: если признаешься правильно, что тебе стыдно, мол, и совестно, то эти слова судье на слух лучше лягут, чем если будешь мычать о своих эпизодах. А главное — неизгладимое впечатление произведешь на родителей…
Вдруг задумался: а ведь я его не осуждаю. Почему? Сам был такой? Но такой ли? Шапки с прохожих не срывал… Гордился — система выбросила. Ей, системе, по барабану, кого выбрасывать, выбор — то все равно твой… Да и — что такое «был»? Так ли уж сильно я изменился, чтобы теперь брезгливо отодвигаться от малолетнего грабителя или молодого убийцы?