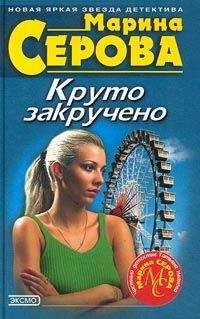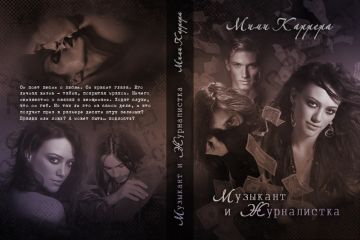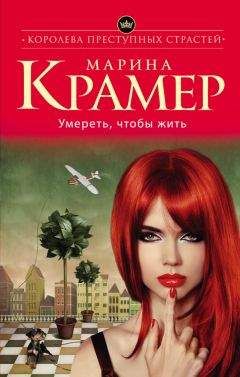Марина Голубицкая - Два писателя, или Ключи от чердака
— Как Евтушенко провел тебя на Вознесенского.
— Как вы с Галочкой потерялись…
Мне не хочется просто записывать старое, фантазировать не умею. И вдруг… За два дня до того, как закончить про Ленина, я понимаю, о чем будет новый рассказ. Эта байка про грузина на демонстрации, Левушкина байка, не моя, вместит в себя столько… И первая фраза — у меня давно вертится первая фраза: «Я хочу лежать носом к стенке, а получается лицом в потолок». Я‑то думала–думала, что за ней — да все годы в СППИ! Десять лет в институте, который меня не любил — если только студенты, а стены, начальство, коллеги… Просто не видели, кто я, какая я. А мне хотелось полюбить, подружиться, понравиться… Как хорошо–то, господи! Теперь все это не пропадет. Я напишу несколько новых рассказов, цикл рассказов, да я целую книжку напишу!.. Ай–яй, полчетвертого, а вставать в полшестого! Залезаю в носки, махровые белые, надо пригреться, надо уснуть, но как уснуть с этой радостью? Прикрываю глаза и вижу солнце, открытое, но не резкое, свет заполняет мои веки, и я засыпаю — легко, не проваливаясь в темноту, — я растворяюсь в солнечном свете.
100
— Иркин, ты во сколько сегодня легла?
— Какая разница…
Комната залита солнечным светом, и можно бы разговаривать громко: Леля с Зоей у бабушки, а Машу берем с собой. Но голос еще не проснулся, и я еще не проснулась, я проснулась не вся… «Вставай, вставай, постели заправляй!» — резвится горн, и физрук Сирота кричит: «На зарядку!» Ну еще пять минут… Тут же соскакиваю: нельзя идти неумытой. При всех парнях! А особенно… Сирота не пустит меня без хвоста, но до умывальников можно: я распускаю волосы — ниже талии! — пшеничные, блестящие на солнце. Мчусь через всю территорию к умывальникам, они в густой елочной тени, здесь пахнет мокрой землей и апельсиновой зубной пастой. Зубы ломит от холода, и я просыпаюсь вся, совсем вся — я издали вижу его: в одних клешах и не зашнурованных кедах, с небрежно брошенным полотенцем на загорелом плече… Его слепит солнце. Сейчас он скажет мне: «Доброе утро!» Он влюблен не в меня, но сейчас он мне скажет… Гремят кастрюли в столовой, и клевер блестит росой. «Доброе утро!» Я краснею, сжимаю в ладони полмыльницы, и из нее выскальзывает в траву розовое земляничное мыло.
— Ты встаешь или нет? Нас ждут серьезные люди!
Срочно соскакиваю:
— А Маша встала?
Мы едем на парусную регату. Еще не жарко. Едем через поля, погружаемся в сумрак елок. Толик пытается завести разговор:
— А представь, достанешь пиво из холодильника, нальешь в стакан, стакан запотел. И ты пальцами так по стакану сверху вниз, две дорожки, а пузырьки лопаются, чпок! чпок!..
Всем лень окончательно просыпаться. Я дремлю и помню…
— Ленчик…
— М–м–м?
— Я знаю, о чем буду дальше писать!
— Давай потом. Дай поспать.
Маша бурчит:
— Зоя права: мама решила стать писателем.
— Девочки, дайте же мне стать поспателем!
Дремлем час или два, просыпаемся у шлагбаума: закрытая зона. Толик подходит к солдату:
— Слышь, друг…
Наша «Волга» стоит на вершине холма, шлагбаум кажется центром мира. Не страшно, что куда–то не пускают. Вокруг косогоры, и рощицы, и другие холмы, и темный лес по краю горизонта. Маша выходит подышать, Маша — красавица. Увидев четырехлетнюю Машу, кареглазую, загорелую, с выгоревшими волосами, при этом тощую и простуженную, Майоров тут же заявил, что напишет портрет этой девочки, пусть только вырастет. Майоров не дождался: он написал портрет, едва Маше исполнилось одиннадцать. Девушка на портрете была чуть грустной, отчужденно загадочной — Маша выросла и стала очень на нее похожа. Однажды я слышала, как Андрей объяснял на выставке, какая у Маши красота:
— Уверенная. Она редко встречается. Этот смуглый лоб — открытый, и роскошные волосы — цвета сухого дерева, и хорошие брови, не хмурые и не слишком изогнутые. Глаза спокойные, но даже в линии рта видна внутренняя работа. И порода видна: нос, хотя и с горбинкой, прямой. И удивительный рот, очень яркий для такой смуглости.
Говорят, Маша холодновата. Это правда. И Фаинкино «худые икры, уральский говор» тоже правда: Маша — красавица, холодноватая, с худыми икрами, с уральским говором. Сегодня она в желтых шортиках, в голубой маечке, волосы падают ниже талии и закрывают голую спинку. Бедный солдатик! Он не слышит Толика, а тот размахивает руками, словно сам объясняет, как проехать: Толик жил в общежитии глухонемых.
— Своротка за переездом? Ты не знаешь, браток, там должно быть еще одно озеро…
Толик пьянеет от видов родной природы, я тоже. Чувствую, что растворена здесь повсюду. Баба Тася родилась в этих местах, в этих местах ее отец сеял хлеб, и когда–то ее мать, моя прабабушка, шла где–то здесь пешком на богомолье. Она была городской прислугой, в голодный год вышедшей замуж в деревню. Двенадцать из ее восемнадцати детей умерли в детстве, но лишь одного — от рождения больного — она ходила отмаливать в Верхотурье. Не отмолила. Не знаю, где именно пролегал ее путь, все равно где–то здесь… Толик сияет:
— Километров шестьдесят еще… За переездом своротка.
Я тоже сияю:
— Леня, я напишу про СППИ! Сборник рассказов.
— Напиши — потом говори.
— Надо решиться, как ты не чувствуешь! Я как придумала, все стало иначе…
— Ты во сколько сегодня легла?
— Какая разница?
101
Мы подъезжаем к озеру. Здесь варится своя жизнь: журналисты, яхтсмены, шашлыки. Розенбаум из репродуктора. Серые корпуса пансионата. Озеро здесь повсюду — с дремучими берегами, с зелеными островами. Я в приподнятом настроении:
— Леня, надо найти Фаину. Она в пятом корпусе.
— При чем здесь Фаина?! Я приехал по делу, я тебе говорил! — он рассматривает, чьи машины припаркованы на площадке. — Ждите, я сейчас.
Маша хнычет:
— Я хочу шашлык! Хотя бы спрайт…
— Скоро поедем обедать. Ждите.
Он исчезает в облицованном мрамором здании. Толик откидывается назад и засыпает. Автомобиль с раскрытыми дверцами, словно раздавленный жук, жарится на асфальте. Наш остров безлюден. У Толика раскрыт рот, и нос размяк, будто оплавлен. Мы находим лавочку — в тени сосны, рядом с клумбой. Маша приносит мне цветы со сломанными стебельками: бархатцы и два ноготка — это цитата из детства. Маша капризничает: «Пить хочу! Лучше бы я поехала на конюшню…» Снизу, с озера, доносятся пляжные визги и дымок шашлыка. Ждем пять минут, десять, двадцать… Невыносимо. Спускаемся к озеру и натыкаемся на Фаинку. Она только что из воды.
— Привет, богачи! Манюня, да у тебя ноги кривые! Это от лошадей. Мне бы такие шортики. Повернись–ка. Класс! Зачем тебе лифчик? — мимо проходят викинги в широченных трусах, в упор разглядывают Машу. Фаина корчит им в спину рожицу. — Посмотри, какие здесь парусники, какие шведы! По–моему, они вообще не просыхают. А где основной? Интригует? Блок сколачивает?? Фи, это непоэтично. Маша, ты что, с ума сошла? Спрайт и шашлык?! Ты разве еще не студентка? Нет, серьезно, ты поступила? Я как подумаю, что Мишик ест в Израиле… Иришка, не давай ей денег, здесь все с поносом! Думаешь, отчего все такие шустрые? Я вечером выйти боюсь. Тем более с моей внешностью… Айда ко мне. У меня такой вид из окна — вы обалдеете! И кормят очень прилично, суп, пюре и котлетка. Зачем вам тратиться? Можно с талонами смухлевать, у меня есть талоны, я сразу от трех редакций…
Подбегает распаренный Леня:
— Привет, Фаина. Вы что? Где вы ходите? Я вас всюду ищу, пошли быстрее! Нас ждут на катере!
Фаинка вспархивает:
— Чао–какао, заходите после групповухи!
Я ворчу на ходу:
— Какой еще катер? Мы не завтракали, даже не искупались, Маша хочет пить, мне надо надеть купальник.
Он останавливается:
— Оставь свои комплексы. Я здесь не хозяин.
Это ясно. Здесь хозяин — хозяин регаты. Дубов. А Ленька все еще не замечает: у меня нет комплексов, я писатель! Мне становится весело:
— Ленечка, кто ты и кто я?
— Уймись, Горинская!
— Но я правда писатель.
102
Я рассказываю Чмутову, как мы с Машей попали в дорогостоящее кино. Таких катеров всего два в Европе. Катер выглядел фундаментально, как Дубов — государственный депутат, председатель промышленной корпорации. У катера был квадратный нос. На такой скорости трудно разговаривать. И дышать. Я надела купальник в каюте, а могла бы и душ принять. Маша вымечтала свой спрайт, хотя были и другие напитки.
— Там было все. И охрана, и московская журналистка, тоненькая, как наша Фаинка, и тоже губастая, и тоже во всем прозрачном. Но выше. Моложе. Глупее. Она так радовалась, что попала на катер, так жеманилась, будто верила, что сейчас ей спонсируют передачу. А не только запитки и накуски. Она все старалась напомнить мужчинам то ли про вчерашнюю гонку, то ли про вчерашнюю пьянку. Пыталась кокетничать с Дубовым, но тот разговаривал с Леней. Переключилась на помощника, но тот рассказывал про плавучие острова и демидовские плотины. Когда мотор заглушили, подошла яхта с телекамерами, чтобы запечатлеть рукопожатие: Горинский и Дубов. Леня был сам не свой.