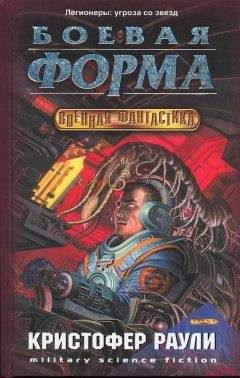Чезаре Павезе - Избранное
Присутствие Габриэллы, с которой я мысленно разговаривал, как подчас про себя спорил с Пьеретто, помогло мне понять одну вещь: запустение, царившее в Греппо, было символом неправильной жизни, которую вели она и Поли. Они ничего не давали холму, и холм ничего не давал им. Дикое расточительство земли и жизни не могло принести иных плодов, кроме внутренней пустоты и неудовлетворенности. Я снова и снова вспоминал виноградники Момбелло, грубое лицо отца Ореста. Чтобы любить землю, нужно возделывать ее и поливать своим потом.
На следующий день после того, как мы побывали в так называемой китайской пагоде, мы снова вернулись туда, и я улыбнулся, вспомнив слова Пьеретто о том, что природа летом отдает совокуплением и смертью. На эту мысль наводило даже оглушительное жужжание насекомых. И знойная духота в тени плюща, и жалобное квохтанье куропатки. Я оставил в полуразвалившейся беседке Габриэллу и Ореста, которые топали ногами и орали, чтобы вспугнуть куропатку, и вышел на солнце.
XXПо вечерам мы сидели на веранде, пили, слушали пластинки, играли в карты.
— До чего я никчемная, — говорила Габриэлла. — Меня не хватает даже на то, чтобы развлечь вас всех.
Время от времени она танцевала с кем-нибудь из нас и, пройдя круг-другой, садилась на место. В первые вечера мы молча слушали музыку и следили за ее на, за полетом голубой юбки.
— До чего я никчемная, — сказала она как-то раз, откидываясь на спинку кресла и вытягивая ноги. — Я устала жить.
— Кажется, она говорит серьезно, — заметил Пьеретто.
— Устала ото всего, — сказала Габриэлла. — Устала просыпаться по утрам, вставать, одеваться, устала от ваших умных разговоров. Я хотела бы пойти в остерию и напиться с грузчиками.
— Это мазохизм, — сказал Поли.
— Да, — сказала она, — я хотела бы, чтобы какой-нибудь мужчина задушил меня. Я не заслуживаю ничего другого.
— О, мы переживаем душевный кризис.
— Вот именно, — холодно отрезала Габриэлла. — Душевный кризис. Здесь это в моде. Будьте осторожны, Орест, не то и вы докатитесь до этого.
— Вы предостерегаете только его? — сказал Пьеретто.
Габриэлла скривила рот.
— По сравнению с ним мы шваль, — сказала она, и по ее взгляду я понял, что в это «мы» она включает и меня. — Только он один среди нас искренний и здоровый человек.
Орест так воззрился на нее, что мы засмеялись. Улыбнулась и Габриэлла.
— Ведь правда, вы всегда искренни и не знаете поэтому никаких душевных кризисов? — сказала она ему. — Вы хоть раз в жизни солгали, Орест?
— Кризис кризису рознь… — начал Поли.
— Еще бы, — добродушно сказал Орест. — Кому не случается приврать?
Тут Поли начал жаловаться и обвинять всех нас, Габриэллу, вообще людей в том, что они останавливаются на поверхности вещей, сводят жизнь к жалкой комедии, ограничиваются бессмысленными жестами и этикетками. Он говорил, что люди лезут вон из кожи и идут против совести ради самых пошлых материальных целей. Кто думает о местечке, кто о своих мелких пороках, кто о завтрашнем дне. Все копошатся, как муравьи, и заполняют дни болтовней и суетой.
— Но если мы хотим быть искренними, — сказал он, — что нам до этих пустяков? Конечно, все мы шваль. Так в чем же выход для человека, который переживает душевный кризис? Уж конечно, не в том, чтобы напиться с грузчиками, которые ни на волос не лучше нас. Выход только в том, чтобы углубиться в самих себя и понять, кто мы.
— Это пустая фраза, — сказал Пьеретто.
— Разве все остальное имеет какое-нибудь значение? — упрямо продолжал Поли. — Все остальное можно купить, все остальное могут сделать за тебя другие…
— Не у всех есть для этого средства, — перебил его Орест.
— Ну и что? Я сказал «могут», а не «делают». Все это вещи, которые не зависят от нас. Только одно никто не может сделать за тебя: сказать тебе, кто ты…
— Но ведь мы — шваль! — выкрикнула Габриэлла. — О Поли, неужели ты не согласен, что мы шваль?
— Поли утверждает другое, — заметил Пьеретто. — Что все мы склонны удовлетворяться этикеткой, ходячим мнением. Недостаточно знать, что мы шваль, этого слишком мало. Надо спросить себя почему, надо понять, что мы можем не быть швалью, что и мы созданы по подобию бога. Так приятнее.
Габриэлла подошла к проигрывателю и поставила новую пластинку. При первых нотах она обернулась, протянула руки и пропела умоляюще:
— Кто меня пригласит?
Встал Орест, а мы трое продолжали разговор. Теперь Поли принялся рассуждать о том, что если бог внутри нас, то незачем искать его вовне, в деятельности, в поступках.
— Если нам дано походить на него, — проговорил он, — то в чем же надо искать это сходство, как не во внутреннем мире человека?
Я следил глазами за голубой юбкой и думал о Розальбе. Я чуть было не сказал: «Эта сцена уже была», но тут заметил, как лицо Пьеретто осветилось странной улыбкой.
— Ты уверен, что это не старая ересь? — проговорил он.
— Это меня не интересует, — резко сказал Поли. — Для меня достаточно, чтобы это было верно.
— Тебе так важно походить на отца небесного? — сказал Пьеретто.
— А что же еще имеет значение? — убежденно сказал Поли. — Ты боишься слов? Назови это как хочешь. Я называю богом абсолютную свободу и уверенность. Я не задаюсь вопросом о том, существует ли бог; мне достаточно быть свободным, уверенным и счастливым, как он. А чтобы достичь этого, чтобы быть богом, человеку достаточно спуститься в самую глубину своего «я», познать себя до конца.
— Да бросьте вы! — крикнул Орест через плечо Габриэллы.
Мы не обратили на него внимания. Пьеретто весело сказал:
— И ты достигаешь этой глубины? Часто ты туда спускаешься?
Поли без тени улыбки кивнул.
— А я думал, — продолжал Пьеретто, — что лучше всего познают себя, когда рискуют собственной шкурой. К примеру, ты знаешь, что бы ты сделал, если бы наступил потоп?
— Ничего.
— Ты меня не понял. Я спрашиваю, не что бы ты хотел сделать, а что бы ты сделал. Что ноги заставили бы тебя сделать. Убежал бы? Упал бы на колени? Затанцевал бы от радости? Кто может сказать, что знает себя, пока не попал в переплет? Самопознание — всего лишь яма для нечистот; душевное здоровье обретают на вольном воздухе, среди людей.
— Я был среди людей, — сказал Поли, понурив голову, — я с детства среди людей. Сначала колледж, потом Милан, потом жизнь с ней. Я поразвлекся, ничего не скажешь. Думаю, это происходит со всеми. Я знаю себя. И знаю людей… Нет, это не тот путь.
— Мне не хочется умирать, — проплывая мимо нас, сказала Габриэлла, — потому что тогда я больше никого не увижу.
— Вы себе танцуйте! — крикнул Пьеретто. — Но она права, — сказал он Поли. — А вот ты, значит, видишь бога в зеркале?
— Как это? — сказал Поли.
— В силу логики. Раз мир тебя не интересует и твой взгляд устремлен на бога, которого ты несешь в себе, то, пока ты жив, ты будешь видеть его в зеркале.
— Почему бы нет? — сказал Поли со спокойным видом, который меня поразил. — Никто не знает собственного лица.
Музыка смолкла. В тишине сквозь оконные стекла был слышен стрекот сверчков.
— На нас опять нападает тоска, — сказала Габриэлла, подойдя к нам под руку с Орестом. — Вы нам надоели.
Мы все вышли из дома и при свете огромной луны, всходившей в это время, пошли по дороге.
— Хорошо бы было, если бы поблизости находилось какое-нибудь заведение, — сказал Пьеретто, — тогда у нас была бы цель.
Габриэлла, которая вместе с Орестом шла впереди нас, сказала:
— Негодник. Смотрите, если вы опять заговорите о потопе.
Я шел между двумя парами, вдыхая запахи земли, луны, жимолости. Мы прошли мимо насыпи, где росли кактусы. На кустах и стволах деревьев, рассеянных по склонам, играли отсветы луны. Чувствовалось легкое дуновение ветерка, словно дыхание ночи.
Впереди Орест болтал о том, что с ним случилось, когда как-то раз он ехал верхом, а позади Поли спорил с Пьеретто:
— Есть своя ценность в чувственной жизни, в грехе. Немногие люди знают пределы собственной чувственности… вернее, знают, что она безмерна, как море. Для этого требуется мужество, и человек может освободиться, только исчерпав ее до дна…
— Но у нее нет дна.
— Это нечто такое, что переносит нас по ту сторону смерти, — говорил Поли.
XXIЯ подтрунил над Орестом по тому поводу, что он уже три дня не ездил в селение и спал в комнате на первом этаже, рядом с комнатой кухарки.
— Ему я доверяю, — сказала Габриэлла.
По утрам Орест поднимался наверх, будил меня, и мы курили у окна.
— Сегодня я встал еще затемно, — сказал Орест, — с раннего утра бродил по лесу.
— Что же ты не свистнул мне? Я бы пошел с тобой.
— Мне хотелось побыть одному.
Я сделал такое лицо, какое сделал бы в подобном случав Пьеретто, и мне самому стало неприятно. Орест опустил глаза, как нашкодившая собака.