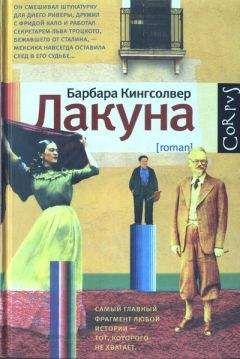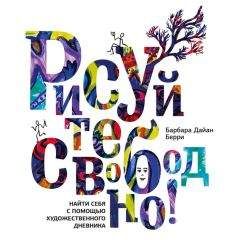Фасолевый лес - Кингсолвер Барбара
Я вытерла руки, крикнула Мэтти «пока!», и мы вышли на тротуар.
– Терпеть не могу это заведение, – сказала Лу Энн, кивая себе за плечо, в сторону «Небесных кисок».
– Согласна, – кивнула я. – Правда, Мэтти говорит, что дела у них идут не особо – соседство с нашим Иисусом отваживает клиентов.
Лу Энн содрогнулась.
– Больше всего меня дверь достает, – сказала она. – Особенно эта дверная ручка. Как будто женщину можно просто толкнуть и пройти насквозь. Я стараюсь не обращать внимания, но не могу.
– Так обращай. Ответь этой поганой двери. Скажи ей: «Со мной у вас этот номер не пройдет, вонючие ублюдки!» Или что-то в этом роде. Иначе она разъест тебе мозг. Ты видела, наверное, как в барах держат в уксусе вареные яйца. Так вот, через некоторое время у них становится ужасный вкус, и это – не вина яиц. Так и я говорю: нельзя просто сидеть и молчать, а то это тебя сожрет. Нужно разозлиться.
– Ты правда так думаешь?
– Да.
– Вот интересно, Тэйлор: ты никому и никогда не даешь сесть тебе на шею. Где ты этому научилась?
– В школе для орехоколов.
11. Ангел в костюме
На третьей неделе мая Лу Энн наконец нашла работу на фабрике, выпускавшей соус сальса «Горячая штучка». Это означало, что с утра до вечера она стояла у конвейера локоть к локтю с сотней других таких же вспотевших людей, которые рубили, кромсали и жали перец чили, помидоры и чеснок, отправляя их для дальнейшей переработки, причем за рабочий день столько всего стекало им под ноги, что к концу смены они погружались в сальсу по щиколотку. Те немногие, кто заботился о сохранности своей обуви, надевали поверх старомодные высокие калоши с застежками поверху, но большинство махнули на это рукой, и к концу дня, особенно если они обрабатывали какой-нибудь особенно качественный перец, ноги их горели так, словно они стояли на муравейнике.
Те работники, что имели дело с перцем чили, уже привыкли к постоянно горящим кончикам пальцев и никогда не трогали глаза или свои (и чужие тоже) интимные зоны – даже в выходные. Как бы они ни терли, как бы они ни мыли руки, остатки перца держались на их пальцах – надоедливые и непреклонные, словно дежурный педагог на школьных танцах.
Честно говоря, это были настоящие галеры. Половину времени кондиционеры не работали, и пары специй исторгали из глаз рабочих яростные потоки слез – так что те, у кого были контактные линзы, просто не могли их носить. Но у Лу Энн на обоих глазах была единица, и для нее это не было проблемой – как и все остальное: Лу Энн влюбилась в свою работу.
Если бы фабрика соусов, где работала Лу Энн, награждала своих работников за трудовой энтузиазм и любовь к родному производству, она бы получила первую премию. Лу Энн приносила домой образцы производимой на фабрике продукции, на основе которых изобретала всяческие рецепты. Некоторые из этих рецептов потом даже печатали на этикетках, но, к счастью, не все. Она читала нам лекции о том, как крохотная щепотка кинзы может спасти или начисто изуродовать сальсу. Еще полгода назад я и слыхом не слыхивала о сальсе. Теперь же, что бы я ни ела – авокадо или тушеное мясо, – везде у нас была сальса.
Сальса приходила к нам в дом в трех видах: мягкая сальса в баночках с зелеными крышками, средняя – с розовыми (она называлась горячая), и, наконец, сальса-фейерверк, ожидавшая своего часа под крышками красными. Последний вид ввергал детей в ужас. Черепашка, стоило крохотной капле этого соуса попасть ей на язык, сразу начинала вопить, высовывала язык и смотрела на Лу Энн как на шпиона, которые пришел всех нас отравить. Дуайну Рею вообще хватало ума даже не подпускать эту гадость к своему языку.
– Может, хватит? – осторожно осведомлялась я. – Давай просто поставим баночки на стол, и каждый будет брать себе то, что захочет?
Когда же приходил мой черед готовить, я старалась соорудить что-нибудь, на чем наши вкусовые рецепторы отдохнут и восстановятся: вареную белую рыбу, картофельное пюре, макароны с сыром.
Но Лу Энн безоговорочно верила в рекламные буклеты, издававшиеся компанией, на которые попалась, как рыба на крючок.
– Это очень полезно для здоровья, – заливалась она. – Многие врачи уверяют, что ложка сальсы в день – отличная профилактика язвенной болезни. А еще она оказывает благотворное воздействие на носовые пазухи – чистит их и дезинфицирует.
На что я благодарила Лу Энн и уверяла ее, что при появлении запаха перца чили мои носовые пазухи покидают насиженное место и прячутся подальше.
Кому-то может показаться, что мы с ней воевали, но на самом деле Лу Энн в эти дни мне страшно нравилась. Через несколько недель после выхода на работу она прекратила издеваться над своей прической и, подойдя к зеркалу, уже не сравнивала себя с различными сельскохозяйственными животными. Возможность зарабатывать как будто утюгом разгладила мятые уголки ее личности.
Обычно она работала во вторую смену и уходила на фабрику к трем, оставляя детей на попечении Эдны Мак и миссис Парсонс, а уже через два часа приходила с работы я, и дети возвращались в наш дом. Довольно долгое время Лу Энн боялась даже слово сказать Эдне, опасаясь нечаянно упомянуть что-нибудь связанное с глазами или зрением. Наконец я расставила все точки над «и», прямо заявив Эдне, что долгое время мы и не подозревали, что она ничего не видит – настолько уверенно она себя вела. Эдна же, как выяснилось, полагала, что мы с самого начала все знали, но мои слова восприняла как комплимент.
Теперь, работая с трех до одиннадцати вечера, Лу Энн уже не могла терзать нас в обед своими огненными запеканками и прочей взрывоопасной снедью, оставив это удовольствие на дни, когда она была выходная. Чаще всего я кормила детей и укладывала их спать еще до ее возвращения, а после одиннадцати мы с ней ужинали или, если было слишком жарко даже думать о еде, просто сидели на кухне в одном белье, обмахивались чем Бог послал, читали газеты и пили кофе со льдом. Спать в такую жару было невозможно, а потому мы сидели за полночь и разговаривали.
Поначалу единственным предметом, о котором она могла говорить, были кинза, перец, помидоры и соседи по конвейеру. Но постепенно наши разговоры вошли в обычное русло. Лу Энн листала газету и рассказывала мне про всякие катастрофы.
– Вот, послушай, – говорила она и читала:
– Либерти, штат Канзас. Родителям сиамских близнецов, сросшихся фронтальными долями мозга, а также их лечащему врачу было предъявлено обвинение в попытке убить младенцев путем задержки лечения. Господи, да ведь их трудно винить, правда? То есть, что бы ты сделала на их месте? Что лучше – быть несчастным калекой и дебилом или просто-напросто мертвецом?
– Если честно, то не знаю, – отвечала я. – Никогда не бывала ни тем, ни другим.
Хотя потом, пораскинув мозгами, я решила, что быть мертвецом – это почти то же самое, что еще не родиться, а это звучало даже неплохо. Впрочем, времени рассуждать об этом у меня особенно не было. Меня больше интересовал прогноз погоды. С того январского дня, когда мы с Черепашкой попали под град на заброшенной заправке и видели двойную радугу, на Тусон не выпало ни одной капли дождя, и весь мир казался обожженным и спекшимся. Стоило пройти мимо дерева или куста, так сразу начинало казаться, что ему больно. Каждый день мне приходилось тащить шланг на задний дворик дома Мэтти, чтобы полить кабачки и тыквы. Цикады зудели так громко, что хотелось убивать. Мэтти говорила, что это у них зов любви, и что крепче всего они любят друг друга именно тогда, когда стоит невыносимая жара и сушь, но я никак не могла взять в толк: как на этот звук может откликнуться хоть какое-то живое существо – даже другая цикада? Это был высокий скрипучий скрежет – звук, от которого слезятся глаза и в трубочку сворачивается кожа, звук из того же разряда, что шипение испорченной пластинки на граммофоне или скрипение мела по школьной доске.
Лу Энн, которая жила здесь уже достаточно давно, чтобы проводить параллели, говорила, что от цикад ее прошибает пот. У меня все было гораздо серьезнее. С помощью воздушного шланга я сдувала этих сволочных насекомых с паркинсоний, растущих возле дома Мэтти, и они, негодующе вопя, уносились прочь, лавируя, словно сделанные из бутылок ракеты. Каждый раз, проходя мимо фрески Иисуса, нашего Господа, я молила его о дожде.