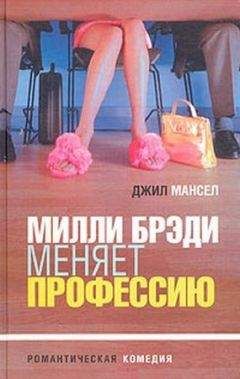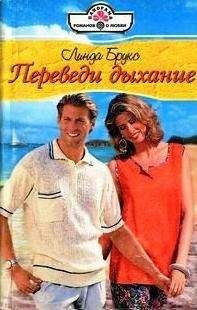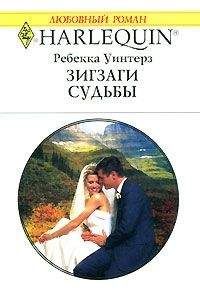He как у людей - Хардиман Ребекка
— «Роберта понимала, что она хочет Хэнка, — читает Милли. — Такого острого желания она не испытывала еще никогда. Тело ее трепетало, а сердце колотилось, когда она смотрела, как он вытирает свой блестящий от пота рельефный живот, остановившись передохнуть во время уборки сена, или возится с культиватором, или похлопывает по спине Расти, своего огромного мерина».
— Ага, так это мерин ей приглянулся? — вставляет Анна.
Милли вместе со всей небольшой компанией весело смеется над этой неожиданной шуткой — редким проблеском озорства в этом доме. Все устраиваются поуютнее в креслах, и улыбки постепенно гаснут, уступая место спокойному удовольствию, предвкушению нескучного вечера. Все слушают.
— Нельзя ли там потише? — кричит какая-то женщина из темноты. — Я телевизор смотрю!
Это Элизабет Колдинг. Она зачем-то уселась как можно дальше от телевизора — у противоположной стены, и ее грубая физиономия, вся в пятнах розацеа (алкашка, не иначе!), сердито поворачивается в сторону Милли и компании. Колдинг — полицейская на пенсии — не пользуется здесь популярностью. Лицо у нее похоже на сырой стейк с белыми прожилками, и от нее всегда исходит странный запах рыбного соуса.
Милли, глядя на Анну, воинственно приподнимает бровь. С такой аудиторией она невольно чувствует себя отчасти революционеркой. Она продолжает читать, не снижая громкости:
— «Роберта протянула руку к рельефным кубикам на животе Хэнка. Он устремил на нее изумленный взгляд. Роберта ощутила под рукой густые мужские волосы. Ее великолепно ухоженные ногти скользнули к большой блестящей пряжке его ремня…»
— Да заткнетесь вы или нет?! Мне новости не слышно.
— А вам не приходила в голову мысль, — отвечает Милли царственным, подчеркнуто ледяным тоном, — пересесть поближе к телевизору?
— Здесь комната отдыха, а не библиотека, тупица!
— Сама она тупица, — говорит старик, к большому удовольствию Милли.
— «…И она нежно провела пальцами по темнорыжей поросли…»
— Хулиганка! — возмущается Колдинг. — Прекрати сейчас же!
По комнате разносится хруст колена — раз, другой. Очевидно, это Колдинг извлекает свое долговязое костлявое тело из темных глубин замызганного дивана. Где-то в другом конце комнаты кто-то громко зевает. Милли воображает, что перед ней разыгрывается сцена из фильма, только действующие лица этой трагикомедии — скрюченные, беспамятные, сморщенные, по-стариковски упертые, склеротичные, с опухшими ногами, сердечными перебоями, плохим слухом, хрупкими костями, ноющими мышцами и затуманенным зрением.
Впрочем, Колдинг, с грозным видом надвигающая-ся на их маленькую компанию, еще на удивление бодра для своих лет.
— Вот нахалка, — шепчет Анна.
— Эгоистка старая! — кричит Колдинг, потрясая пальцем в воздухе. — Я тебя сейчас сама заткну!
То, что происходит дальше, самой Милли представляется скорее заурядной семейной разборкой, хотя персонал «Россдейла» позже охарактеризует это как вопиющий акт насилия. Она хватает «Мастера желания» здоровой рукой и запускает в Колдинг. Должно быть, годы пьянства притупили реакцию бывшей полицейской: она не успевает даже пригнуться. Роберта с Хэнком падают у ее ног и приземляются на плиточный пол порнографической обложкой вверх.
Повисшую в комнате напряженную тишину нарушает пожилой джентльмен, которого Милли про себя прозвала Дубиной Коналлом: как раз в этот момент он входит и спрашивает:
— А щипчиков для ногтей ни у кого нет?
Колдинг начинает орать какую-то чушь: «Дайте мне форму пациента 12А!» — и вдруг осекается. На щеках у нее расплываются ярко-красные пятна. Она показывает пальцем на книгу, распластанную на полу
— Где ты это взяла?
— Внучка принесла.
— Врешь! Она пропала вчера из моей комнаты. Сестра!
Тут же отовсюду налетают местные кумушки, начинают неодобрительно хмуриться и расспрашивать. Милли выводят из комнаты, шепча ей что-то успокаивающее — как будто она слетела с катушек и ее нужно привести в чувство, — и оставляют ждать в кабинете миссис Слэттери, где позже та читает ей утомительную лекцию о надлежащем поведении и о нарушении правил «Россдейла». Под конец миссис Слэттери сообщает Милли, что вечера в гостиной в компании других обитателей «Россдейла» — единственное развлеченне, хоть как-то помогающее пережить черные дни, — для нее пока отменяются. Это несправедливое наказание — одновременно излишне жестокое и унизительно мелочное, и Милли, услышав об этом, вскакивает на ноги.
— Это возмутительно!
— Миссис Гогарти, сядьте, прошу вас. Все будет хорошо. Давай обсудим это спокойно.
— И сколько же мне торчать в этой комнате одной?
— Вы не одна. С вами Эмма Джеймсон…
— Вы шутите, да?
— Это временное ограничение, всего на несколько дней.
— Может, мне всего-то несколько дней и осталось.
— Вы чуть не ударили женщину книгой, — напоминает миссис Слэттери.
— В мягкой обложке.
— Уже поздно. Давайте поговорим об этом завтра, хорошо? К тому времени вы выспитесь, и все предстанет в другом свете, правда ведь? — Миссис Слэттери хлопает в ладоши. — Есть еще какие-нибудь вопросы перед тем, как вы пойдете отдыхать?
— Есть, — говорит Милли. — Когда я вернусь домой?
Миссис Слэттери — седовласая женщина еще вполне ясного ума, хотя ее дрожащие пальцы свидетельствуют о ранней болезни Паркинсона, женщина, которая, кажется, сама уже недалека от того, чтобы поселиться здесь доживать свой век, вздыхает и смотрит на Милли словно бы оценивающе.
— Я буду с вами совершенно откровенна. Я восхищаюсь вашей энергией. Силой вашего духа. Правда.
По-моему, вы замечательный человек. Вы напоминаете мне мою тетю Маргарет, она тоже была… крепким орешком. Вы молодец, что не сдаетесь. И все же нужно смотреть правде в глаза. Нельзя прятать голову в песок, миссис Гогарти. Это ни от чего не спасает. А правда в том, что… с возрастом мы все сталкиваемся с некоторыми… физическими ограничениями, травмами, болезнями — что делать, такова реальность. Вот почему вы здесь — мы должны помочь вам снова встать на ноги.
32
Воскресным утром, в тот час, когда все его соотечественники или отправляются к мессе, или еще спят, Кевин стоит перед дверью чужого дома. На окнах кружевные занавески, внутрь никак не заглянуть. В его собственном доме, в десяти минутах ходьбы отсюда, сейчас, должно быть, сонное царство, хотя откуда ему знать наверняка — его же выставили оттуда, выгнали без всяких церемоний, без пощады и слез. Грейс просто велела ему проваливать. Она сказала, что не хотела торопиться и обдумывала решение несколько дней, надеялась, что сможет смириться с его предательством. Но на представлении «Волшебника из страны Оз», когда ее взгляд упал на него, сидящего рядом с детьми, она поняла, что ей больше всего хочется ударить его по роже. И с тех пор это желание не пропало. Все это было изложено ровным, спокойным, безучастным тоном — так обращаются к кассиру в банке, когда хотят снять мелкую сумму. Он же, напротив, был само обнаженное сердце. Мгновенно запаниковал. Пытался объяснить, успокоить, вымолить прощение.
— На самом деле ничего даже не было! Клянусь! — лепетал он. — Один-два поцелуя, и они даже не привели к… сношению. Я люблю тебя. Не делай этого.
Этот разговор — пугающе спокойный с одной стороны и запальчивый с другой — состоялся по инициативе Грейс в дальнем конце сада, чтобы не слышали дети. Только услышав про «сношение», Грейс наконец проявила какие-то эмоции и пронзила мужа испепеляющим взглядом: кажется, именно это слово показалось ей особенно отвратительным. Ее всегда злило его пристрастие к замысловатым выражениям в серьезные моменты, дурацкая привычка выпендриваться именно тогда, когда лучше бы обойтись простыми словами. После этого Грейс уже не дала ему сказать ни слова — дошло до того, что даже заткнула уши, закрыла глаза и только повторяла: «Нет, нет, нет». Потом она стала излагать свои условия и практические соображения на ближайшее время — что-то о второй машине, о банковской карте, но Кевин услышал только одно: он не должен пока ни разговаривать, ни видеться с детьми. Ей нужно время подумать.