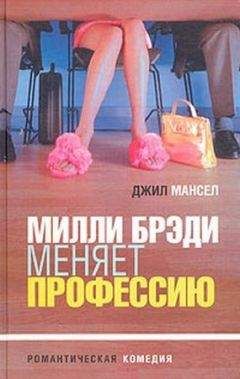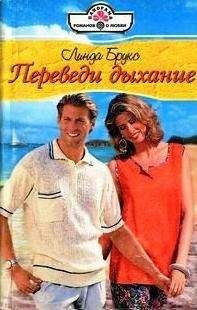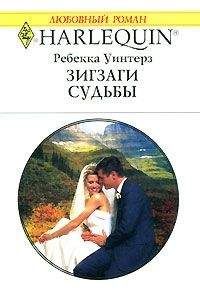He как у людей - Хардиман Ребекка
— Кто такой Шон? — интересуется Нуала.
Все это время, с той минуты, как разорвалась эта бомба, Эйдин почти не дышит. Она пытается переварить все эти путаные сведения, радуясь хотя бы тому, что в темноте не видно ее лица, а заодно тому, что Шон никогда не видел ее сестру.
— В сущности, — продолжает бабушка, — он был уже при смерти, если хотите знать. Он несколько раз заходил ко мне вместе с Сильвией, во всем мне помогал. И весьма кстати. — Она смотрит на папу в упор. — Всякие мелочи, с которыми все некому было разобраться. Он и лампу мне на кухне починил.
— Так ты говоришь, Шон… болен? — спрашивает Эйдин. — Мне так не показалось, бабушка.
— Так ты его знаешь? — спрашивает мама.
Эйдин буркает что-то невнятное, но утвердительное.
— Ох, я уже и не помню, что у него за болезнь такая, — говорит бабушка. Она снимает шляпу и с наслаждением скребет поросший редкими волосами затылок. — Какая-то страшная, смертельно опасная штуковина. Не рак, но… вроде как его дальний родственник! Чудное такое название. Вы когда-нибудь слышали что-нибудь подобное? В общем, они улетели в Америку. Оба. Да неужели я не рассказывала?
Дома, укрывшись в своей комнате, Эйдин старательно припоминает во всех подробностях разговор в машине. Шон болен, а значит… значит… о господи. Если он болен, то чем именно? А вдруг он умрет? Или больше не вернется в Ирландию? И почему он ей не сказал ни слова? Какая ужасная и одновременно прекрасная новость! Ее парень сейчас, может быть, на грани жизни и смерти, на больничной койке где-то в Штатах. Но зато теперь понятно, почему он так бесцеремонно расстался с ней. Должно быть, заболел как раз в тот день, когда она ждала у его «Бьюли», или еще раньше, и страдал молча, без жалоб — рыцарски, геройски…
Раздается два негромких удара в дверь, и Эйдин видит свежее, безупречно правильное лицо сестры.
— Что такое?
— Тс-с-с! Ты же должна была сама прийти.
Чума с тихим щелчком закрывает дверь, перешагивает через вороха разбросанных по полу трусов — так невыразимо грациозно, что Эйдин хочется дать ей пинка, — и со вздохом садится на кровать. Она удивительно красивая: ясные светлые глаза, густые изогнутые брови, глянцевый румянец на щеках и все остальное.
— Мама с папой ужасно поссорились. Ужасно.
— Из-за чего?
— Не знаю.
— Не знаешь?
— Я не все поняла. Было очень поздно. Я уже спала, но проснулась от криков.
— Когда это было?
— В их годовщину — значит, во вторник? Оба так кричали — прямо во все горло. Ты бы только слышала. А потом папочка…
Эйдин терпеть не может это ее вечное «мамочка, папочка». Этакая наигранная детскость, манипулятив-ное выпрашивание родительского внимания, проверенный способ сделать так, чтобы с ней еще больше носились, трепали по холке, как хорошенького пудель-ка. «Умничка, Нуала, послушный щенок, давай, неси палочку». Сама-то Эйдин уже подумывает, не пора ли перейти от «мамы» с «папой» к «Грейс» и «Кевину».
— Не реви только. Этого дерьма мне еще не хватало.
Нуала сжимает губы, но они все равно дрожат. В этой ее маленькой борьбе с собой Эйдин видится что-то похожее на мужество. И это трогает ее настолько, что она совершает невообразимое: кладет руку на спину сестры, и от этого беспрецедентного жеста Нуала мгновенно капитулирует. Она уже не такая красивая. Ноздри у нее раздуваются, слезы текут ручьями из покрасневших глаз, оставляя на точеном лице влажные светлые дорожки. Вместо того чтобы закрыть лицо руками, как это наверняка сделала бы сама Эйдин, потому что ненавидит показывать на людях какие бы то ни было эмоции, Нуала беспомощно втягивает голову в плечи, оборачивается к сестре и валится ей на грудь.
Эйдин в первый миг неловко каменеет, но потом прижимает Нуалу к себе, как когда-то, без всякой неловкости и замешательства. Она искренне сострадает сестре.
— Ничего, обойдется, — говорит Эйдин.
— Нет, не обойдется.
— Все люди ссорятся. Тем более мужья с женами.
— Нет. Кажется, они разводятся.
— Глупости! Никто и не думает разводиться. С чего ты взяла? Это они так сказали? Прямо такими словами?
— Нет, но они теперь почти не разговаривают. А он в подвале спит.
— Да иди ты!
— Говорю тебе.
— Хрень какая-то.
— Ты же не знаешь, что тут творится. Говорю тебе — он дожидается, пока мы все не ляжем спать, а потом спускается туда. Я и постель его там в шкафу видела — большущий такой ком. Если мне не веришь, посмотри сама.
Они долго сидят молча, и наконец Нуала говорит:
— Так жалко, что ты не можешь все время тут жить.
31
Половина «Россдейла» даже не выходит в столовую на чай. Им приносят подносы прямо в спальню, а каких-то бедолаг и вовсе кормят через нос, через пупок, через ноготь большого пальца на ноге или бог знает через что еще, Милли Гогарти не в курсе. Большинство пациентов, или «клиентов», как их тут называют, из тех, что еще способны таскать ноги или кататься в кресле, после чая собирается в комнате отдыха перед телевизором, и оттуда то и дело доносятся жалобы, что ничего не слышно (еще бы: этот телевизор оглушит и тромбониста со стажем). Милли же по вечерам обычно болтает с миссис Джеймсон. Она уже, можно сказать, полюбила свою соседку, и отсутствие взаимности ее не смущает. Но иногда, вот как сегодня, мысль о том, что придется опять просидеть весь вечер в тишине, уже вызывает у нее глухое отчаяние.
Она поглядывает на стариков и старух — тех, что хоть и дряхлые, но еще в сознании, взглядом приглашая составить ей компанию, но, похоже, никто этого не замечает. Ну что ж. Милли, несколько обескураженная, уходит одна, прижимая здоровой рукой недавно приобретенную книжку в мягкой обложке — «Мастер желания». Другая рука, которую здесь ежедневно бинтуют несколькими слоями стерильной марли, висит, как в гамаке, на темно-синей перевязи из плотной ткани. Она пополнила собой растущую коллекцию нерабочих конечностей и больных мест: замороженное плечо, хромое колено, пара отвратительного вида мозолей.
Устроившись в одном из самых неудобных кресел (а нечего было так долго раздумывать), Милли вновь погружается в перипетии невероятного романа между чувственным чикагским преподавателем кукольного театрального мастерства и знойной батрачкой из Южной Дакоты — и вдруг чувствует на себе чей-то взгляд. Это Анна — застенчивая, страдающая артритом старая дева. Все предыдущие попытки Милли завести с ней разговор неизменно оканчивались неудачей. Но сейчас Анна стоит в кругу золотистого света, падающего от лампы, и с откровенным любопытством разглядывает обложку ее книги. На обложке сладострастного вида молодой человек, голый по пояс, в потертых джинсах, стоит за спиной пышнотелой женщины в квадратных очках. Оба застыли в надрывно-эротических позах.
Милли едва не фыркает. Эти молодые воображают, будто секс — их изобретение. Уж ее-то никто не мог бы обвинить в ханжестве. Они с Питером однажды занимались этим делом в лесу среди бела дня, на клетчатом пледе. Среди бела дня! В лесу! И все же несколько досадно сознавать, что, как она ни старается, большую часть сексуальных эпизодов своей жизни ей не удается припомнить сколько-нибудь живо и подробно: все это было у нее только с мужем и уже давным-давно.
— Не могли бы вы почитать немного вслух, Милли, если вы не против? — просит Анна. — Ужасно хочется послушать какую-нибудь историю.
Против? Она? Милли чувствует себя польщенной тем, что эта женщина, оказывается, знает ее имя! Она приглашает Анну сесть рядом, делая вид, будто сметает пыль с соседнего кресла, будто хозяйка, принимающая гостью за ужином, и приступает к сцене, где отношения между диковинной парой из поместья «Буколика» еще только начинают развиваться.
Стоит Милли прочитать несколько абзацев, как вокруг собирается пусть небольшая, но весьма заинтересованная аудитория: один с виду еще довольно ясный разумом старик с белыми пучками волос, полумесяцами торчащими из ноздрей, и две безобидные болтушки, известные под общим именем Мэри С. (Мэри Салливан и Мэри Смит), которых редко можно увидеть поодиночке.