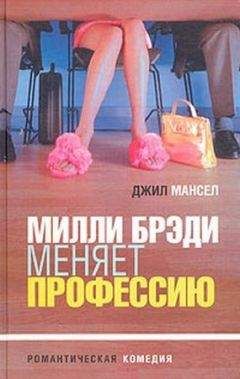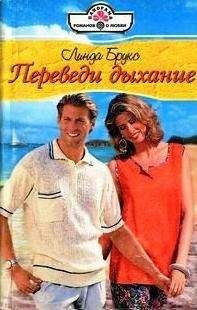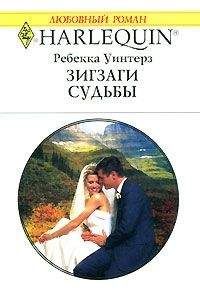He как у людей - Хардиман Ребекка
— Столовым ножом?
— Вот соберу все вещи и уйду отсюда. Они запретили мне ходить в комнату отдыха, я сижу здесь целыми днями, с меня хватит. А твой отец даже не говорит, когда собирается увезти меня домой. Мне, кажется, нужна для этого его подпись или бог знает что там еще, а я подозреваю, что он решил законопатить меня сюда насовсем.
— Ну нет, он этого не сделает.
— Не знаю, но на всякий случай об этом — ни одной живой душе. Ведь ты не проболтаешься?
— Я не стукачка. — Эйдин серьезно качает головой, но на самом деле она просто хочет успокоить бабушку, ведь безумный план побега, конечно, никогда не осуществится. — Знаешь, я тебе, наверное, смогу еще денег достать, но не раньше следующих выходных.
— «Принцип пирата», — бормочет бабушка. Она подходит к прикроватной тумбочке миссис Джеймсон, где громоздится стопка романов в мягкой обложке, берет один из них и листает страницы. На пол падает бумажный листок.
— Et voila!
— Ну, ты даешь!
Бабушка сияет.
— Похоже, я уже стала из ума выживать, а, Эйдин? Совсем забыла, что читала эту книгу вслух миссис Джеймсон — видишь ли, у меня такое впечатление, что она понимает больше, чем кажется. Как знать, правда? Это только врачи думают, что все знают.
Но Эйдин не слушает — она торопливо хватает листок. Десять цифр, выведенных дрожащей бабушкиной рукой. Эйдин достает телефон и тут же начинает набирать номер.
— Я наберу, а ты поговоришь, ладно? — спрашивает она, замирая от подступившего ужаса. И в то же время она уверена, что еще несколько секунд — и она получит объяснение, которое избавит ее от этой тоски, от этой мучительной неизвестности. Сейчас наступит ясность! Первые попытки оказываются неудачными: приходится вначале разбираться с международными кодами. Но вот, с третьего раза, после небольшой паузы, слышится длинный американский гудок. Сделав знак бабушке и затаив дыхание, Эйдин слушает — один гудок, другой, а затем щелчок. И следом:
— Набранный вами номер больше не обслуживается. Пожалуйста, проверьте номер и попробуйте позвонить позже.
— Странно, — говорит бабушка.
— Вот дерьмо, — говорит Эйдин.
34
Не успевает Кевин постучать, как дверь распахивается, и перед ним предстает мать Мика, Мейв, — в одной руке зажженная длинная дамская сигарета, в другой пульт от телевизора. Она цокает языком, хмурится и неодобрительно покачивает головой.
— Так-так-так.
— Привет, Мейв.
— Мик дома. — Мейв выпускает в его сторону столб дыма из полных губ и поворачивается спиной, оставив дверь полуоткрытой — ровно настолько, чтобы Кевин мог протиснуться. Диван твой.
На этом диване Кевин и проводит следующие несколько дней. По вечерам они с Миком заказывают на дом жирный фастфуд, сидят у газового камина, пьют пиво из банок и болтают о всякой фигне. Мейв плавает взад-вперед по тесным, захламленным комнатам, словно облако тумана. Похоже, у нее нездоровая зависимость от онлайн-игры в червы — она вечно сидит с этими червами то за компьютером, то за телефоном, то в одном, то в другом углу своего бунгало. Кевин просыпается на обтянутом вельветином диване с болью в пояснице, с удовольствием, не спеша облегчает мочевой пузырь и тут же возвращается обратно на диван: щелкает пультом телевизора или клавиатурой ноутбука и откровенно отмахивается от любых мыслей или планов на будущее. Пытается позвонить Джерарду, но сын, похоже, никогда не бывает дома. С ностальгией вспоминает о вечерах, предшествующих отъезду Джерарда, когда он проверял его готовность к экзаменам: Вторая мировая, Шон О’Кейси, значение туризма для экономики Ирландии. Остальным детям Кевин решил не звонить, уважая просьбу Грейс, но обнаруживает, что очень скучает по ним. Сайты с вакансиями больше не открывает. Начинает играть в червы онлайн.
Каждое утро, когда его друг отправляется на работу, Кевин чувствует себя ужасно подавленным — словно его подкинули в чужой, враждебный дом. Это напоминает тот случай, еще в школьные годы, когда ему нездоровилось, а у мамы были какие-то важные дела, и она оставила его на весь день у подруга. А потом он проснулся на диване в доме этой женщины и едва не сгорел со стыда, увидев, что во сне его вырвало и этой рвотой забрызгано все одеяло, до последней складки. Тогда он почти физически ощутил, как невыносимо хочется домой, к маме.
В этом доме Кевин без конца прислушивается к шагам Мейв, чтобы не сталкиваться с ней лицом к лицу наедине. Дом довольно маленький, и Кевин быстро научился определять ее местонахождение: по характерному скрипу, когда она, медленно передвигая ноги, курсирует из спальни в туалет и обратно, по раздражающей манере задергивать шторы после ужина, по шарканью ног на кухне, когда она заходит туда за бутербродами с беконом и чашкой чая.
На пятое утро, как только Мик уходит на работу, Кевин направляется к чайнику, полагая, что Мейв тоже ушла в свой салон. Она там что-то вроде легенды — красит и стрижет немолодых клиенток, обменивая свои услуги на ценную валюту в виде свежих сплетен. К своему удивлению, он обнаруживает, что в этот раз она сидит на кухне за столом — без ноутбука, без виртуальных карт, лишь с пачкой сигарет, коробком спичек и грязной пепельницей, вонь которой чувствуется прямо от двери.
— О, а я думал, вы уже ушли, — говорит Кевин. — Чашечку чая?
— Видишь эту раковину? — говорит Мейв, тыча коротким пальцем в пятнах от никотина в стопку тарелок и чашек. — Жидкость для мытья посуды вот. Если ты рассчитываешь остаться здесь еще хоть на минуту, лучше перестань прикидываться дурачком.
— Да, конечно, извините. Я просто не…
— И за аренду свою долю изволь платить. Мик тебе этого не скажет, а я не из стеснительных. И не идиотка. Пока что, для начала, сто пятьдесят.
Кевин мысленно пересчитывает содержимое своего кошелька — что-то около двадцати трех фунтов.
— Я догадываюсь, что у тебя произошло дома, Кевин.
— Мне кажется, это совершенно не…
— Четверо детей, как-никак, — холодно говорит Мейв и зажигает новую сигарету. — Знаешь, отец Мика в свое время поступил точно так же.
— Это другое. — Кевину известна эта гнусная история — она всем известна, хотя сам Мик никогда не затрагивает эту тему.
— Сбежал к молоденькой, когда Мику было всего полтора года. А я тогда была беременна Дейрдрой. Они своего отца не видели вот уже… да, двенадцать лет. Ты ведь не хочешь того же?
— Конечно, не хочу. Она сама меня выставила.
— На твоем месте я бы начала искать себя, вместо того чтобы сидеть с кислой миной и расчесывать раны. — Она смотрит на него и почти улыбается. — А теперь и чаю выпить можно.
35
Идея Милли — рвануть из этого дурдома — в деталях пока не продумана, но мысль об этом приятно кружит голову, а разработка плана придает осмысленность унылым дням. Она постепенно собирает запасы: пузырек имодиума (на тот маловероятный случай, если чертов понос прихватит ее в пути), пара таблеток амбиена и еще четыре штуки каких-то — бледно-голубых, продолговатых, в момент безрассудной, отчаянной храбрости прихваченных из ящика с лекарствами, который частенько оставляли без присмотра. Эти, должно быть, от депрессии или от тревожности — в сущности, неважно. Способов несколько: а) наскрести денег на такси, б) выяснить, какие автобусные маршруты идут в нужном направлении (хотя это не слишком удобно: бежать лучше всего под покровом темноты, а ночных автобусов так мало), в) добираться автостопом (сомнительно, но не стоит с ходу отметать этот вариант) и, наконец, г) идти пешком — наименее приятный план из всех: до Маргита далековато, для такого похода нужен запас провизии и воды. А значит, и груз будет намного тяжелее.
— Я хочу кое в чем признаться, заранее, — говорит Милли, обращаясь к занавеске между двумя кроватями в комнате 302. — Вот не знаю, вы религиозны или нет? Из всего, что я ненавидела в церкви, а я там много чего ненавидела, ничего не было страшнее исповеди. Бред, если вдуматься, правда ведь? Стоишь на коленях в черном ящике и выкладываешь все свои грехи человеку, который делает вид, будто сам ни разу в жизни не согрешил. Если бы еще это женщина была — ну, женщина-священник… — Она вздыхает. — В общем, так. Я сейчас на мели, и, думаю, вы бы меня сами выручили, если бы могли.