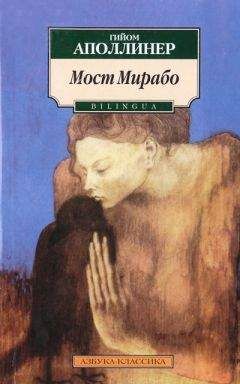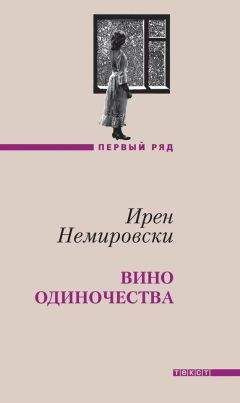Изабель Фонсека - Привязанность
Не удержавшись, она спросила:
— Почему ты так тяжело дышишь?
— Хочешь — верь, хочешь — не верь, но я только что пробежал через всю квартиру, чтобы ответить на звонок, — какая-то психованная позвонила мне, когда я только-только начинал дремать. Я не так уж здоров, понимаешь. Ложная реклама.
Это шло вразрез с ее замыслом. Его следовало остановить.
— Как ты мог сделать такое?
— Ох, Джин, если хочешь вернуться и посниматься по-другому, то, хм, я смотрю в свой ежедневник, и вроде бы я свободен, да, как ни странно.
— Как ты мог заниматься этим с Ширли?
— А, Ширли. Она жадновата до ширинки, наша Ширл. Но наша цель — приносить радость.
— Ты — просто скот, — без тени юмора сказала Джин, и, когда она выплевывала эти слова в трубку, у нее сжимались губы и перехватывало горло.
— Мне многие так говорят. Хаббард — то есть мистер Хаббард, — он особенно любит это повторять, но должен признаться, что до сих пор я воспринимал это как комплимент.
— Я хочу, чтобы этих фотографий в твоем компьютере не было.
— Звучит так, словно ты уже стерла их в моем компьютере, миссис Х. Уймись, Джин, все это было совершенно по-доброму. А что до Ширли, так она просто ненасытна. И я не имею в виду не только, что…
— Хватит. Ты когда-нибудь делаешь перерывы?
— По правде сказать, я пытался, но эта сумасшедшая дамочка с островов, что мне звонила, хочет моей головы. Не больше, не меньше.
Она стиснула зубы.
— Слушай, Дэн, боюсь, я немного расстроилась. Уверена, что ты не желал ничего дурного. Но ты не можешь так поступить. Правда, прошу тебя. Пожалуйста. Обещаешь, что все их удалишь?
— Ты здесь босс.
На самом деле — его жена. Он когда-нибудь ее послушает? Она пыталась говорить мягче, но что толку? Дэн сделает, как захочет.
— Послушай, — сказала она. — Прошлой ночью мне было лучше, чем ты можешь себе представить. Нет, ты, наверное, сам это знаешь. А вот остальное просто все для меня портит — просто все перечеркивает.
— Не беспокойся, Джин. Я вовсе не собираюсь тебя доставать. Это было божественно, а ты, по-моему, великолепна. Собственно, я собирался немного вздремнуть, а потом позвонить тебе и пригласить тебя на ленч.
— Ты меня вообще слушаешь? Вот что. Пусть это исчезнет. Если ты мне хоть в какой-то мере друг, то пусть это просто исчезнет, и все.
— Ужасная растрата, вот все, что я могу на это сказать. Слушай, не надо тебе беспокоиться. Да, я сотру эти фотографии. Пусть буду рвать на себе волосы, но сотру полностью. Обещаю.
Джин ему поверила, хотя и не понимала, почему.
— Значит, нам, я полагаю, не понадобится говорить об этом снова, — произнесла она, чтобы его добить. — Все равно на следующей неделе я возвращаюсь на Сен-Жак. Как только получу результаты анализа.
Последний отчаянный выстрел: рак. Пожалуйста, исполни волю умирающей. От Дэна последовало глубокомысленное молчание. Он что, уже забыл? Или расстроился созерцанием ее безгрудого торса с эстетической, даже профессиональной точки зрения? Или предполагалось, что это — скорбное молчание? Если так, подумала Джин, то лучше забудь об этом. Для торжественности, Дэн, ты не создан. Просто чтобы поставить окончательную точку, она добавила:
— Марк так тебя любит. Как сына — или непослушного младшего братца.
— Что ж, а я люблю его, — сказал Дэн без малейшего намека на иронию. — Хотя не совсем так, как тебя.
Лежа в ванне с высоко зачесанными и заколотыми зубной щеткой волосами, Джин смотрела на свое тело, полностью погруженное в воду, за исключением двух островков, плававших в этом прозрачном зеленом море, — в центре каждого из них было по выжившему одиночке. По крайней мере, каждый из них имел для компании другого — пока. Участок, где была сделана биопсия, болел сильнее, чем остальные болезненные участки. Но Джин не обращала внимания на боль.
Закрыв глаза, она стала думать о языке Дэна, властно покрывавшем захваченную в горсть женскую плоть, когда соски ее не были так одиноки, и сквозь нее пробежала дрожь — не судороги и конвульсии прошлой ночи, но змейки быстро наступающей болезни, над которой все той же прошлой ночью насмехалось ее ищущее забытья «Я». Она хотела обследовать другие, нетелесные кровоподтеки — следы от моральной или духовной биопсии, — но как сделать нечто подобное?
Изоляция: вот что казалось наиболее вероятным последствием того, что она перешла через границу с Дэном, последствием, препятствующим чему-либо по-настоящему ужасному с его стороны. Ей казалось, что она в точности представляет себе, как окажется изолирована в тот же миг, когда увидит теперь Марка, с этой новой завесой между ними. Даже больше, чем появления своих фотографий на экранах офисных ноутбуков, она страшилась такого последствия: отторжения от своего мира, от всего, что у нее было. Самовыселение. Но страх подобен яду. Джин подумала о тех устройствах, которыми обхватывают коров, прежде чем вести их на бойню. Ничего общего с благоденствием животных — страх токсичен, он придает мясу омерзительный вкус.
Она посмотрела на побежавшие по воде концентрические круги, произведенные ее большим пальцем, который выглянул было, словно перископ, а потом передумал. Заставил ли ее Дэн почувствовать себя хоть сколько-нибудь лучше в отношении поездки Марка в сравнении, скажем, со всем ее лазанием по Интернету? Да, заставил. Порыв ступить на какую-нибудь независимую тропу не мог не придавать сил, если не в точности приободрять. Но отчего же чувствовать себя лучше, прыгая на тонущий корабль? Ей вспомнилась маленькая, твердая, вышитая подушка, одна их тех декоративных случайных вещиц, которые собирала Филлис, — надпись на подушке гласила: если ты меня покинешь, я уйду с тобою вместе.
Все же вчерашняя ночь не ощущалась как-то связанной с Марком и ее браком. Ни даже с Марком и Джиованой. Может, это просто была Джин на грани своего сорокашестилетия, и это ничего не означало. А может, это пробивалась наружу ее подлинная личность, подобно тому, как кое в ком алкоголизм проявляется где-то около тридцати пяти. Джин-филобатка, по образцу акробатки, тот тип, что предпочитает в одиночку справляться с трудными, неопределенными ситуациями. Хотя, конечно, она была не одна.
Ей следовало предвидеть, что ничто никогда не будет тем же самым. Но, к периодически возникающей в ней огромной грусти, ничто никогда и не было тем же самым. В сущности, вся эта ночь была упражнением в ностальгии. Голодные поцелуи — помнишь такие? Что ж, они по-прежнему существовали — даже более изумительные, они были для нее достижимы, и она помнила, как все это происходит. Она словно прямиком ступила обратно в любимое окружение из прежнего времени, как в танце по квадрату[65].
Конечно, она испугалась, и не без причины. Потому что наряду с чувством стыда в ней присутствовал и шок от наслаждения. Даже сейчас, несмотря на все остальное, имевшее место этим болезненным днем, она испытывала ясное и светлое счастье, как будто только что плавала в океане и вышла под горячее солнце.
Пока она была в ванной, телефон звонил дважды. Должно быть, это Марк, с сообщением о задержке. Накинув белый халат поверх тонкой хлопчатобумажной ночнушки, она пошла вниз по покрытым джутом ступеням, спокойная, отрешенная, готовая ко всему, что могло последовать.
Сообщение один. 11:10. Би-ип! Виктория. Она собирается отоспаться после вечеринки, успеть на вечерний поезд и вернуться около полуночи. «Не волнуйся, мам, мы будем в здоровенной шайке».
Сообщение два. 11:25. Би-ип! «Дорогой щеночек, как так получается, что я никогда не застаю тебя дома? Боюсь, милая, что за все замечания о моих злостных немецких хозяевах меня постигла кара Господня, горе мне, горе! Погода без преувеличения ужасная, свинцовое покрывало летнего тумана — это здесь самое обычное дело, очевидно, и еще одна из причин любить Германию. Но вылететь отсюда невозможно, ни за любовь, ни за евро. Поверь, они стараются изо всех сил. Весь здешний флот обеспечивается их двигателями, но они владеют только чертовым аэропортом, но не радостью! Позвоню тебе позже, когда разузнаю что-нибудь еще, но, кажется, я прикован к земле. Полагают, что к утру туман разгонит ветер, и, если повезет, первый рейс из Мюнхена в Хитроу вылетит, сейчас гляну, в котором часу, — что, около часа пополуночи? Ладно, зато контракт вроде бы обеспечен. Надеюсь на это черт знает как. Пока, дорогая. Привет малышке Вик. Позвоню позже. Пока.
Воспроизводя это сообщение снова, она чувствовала себя в еще большем миноре, чем раньше. Дорогой щеночек. Два десятилетия собачьих прозвищ, и Джин всегда называлась щеночком или вариациями: щенком, собачкой, собачонкой, что, полагала она, объяснялось ее порывистостью, ее смешливой легкостью на подъем. Марк поддерживал противоположную сторону: он был вислоухим, лохматым, мохнатым и пуделем — из-за своей шевелюры, но также и благодаря своему общему сходству с принюхивающейся старой собакой, когда он вытягивал на длинной шее голову — так что она оказывается намного впереди его длинного туловища, печальная и обеспокоенная. О Боже, что она наделала. Открываясь, громко щелкнул тостер, и из него выскочил тост, подпрыгнув так же, как это всякий раз случалось с Джин при звуке дверного звонка.