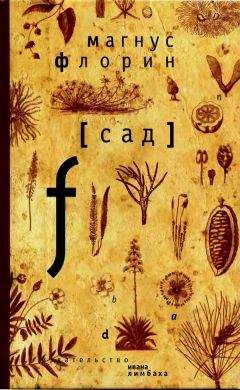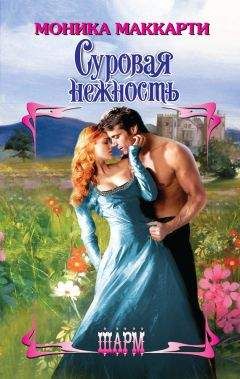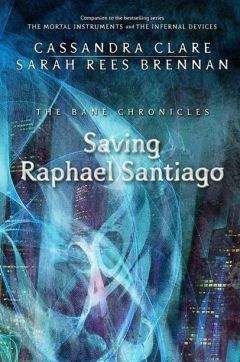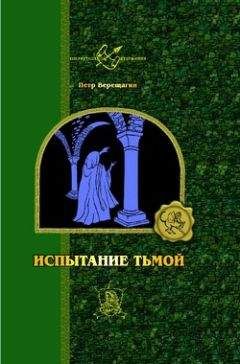Петр Алешковский - Институт сновидений
Ладно. Он – в парк. Занял у ребят денег две сотни – всех упоил, а теперь домой собрался. Боюсь, говорит, как бы не зарезать ее.
Не боись, отвечаю, она тебя сама боится и очень даже любит и уважает, хочешь, докажу? Ну, он меня целовать, заслюнил всего – чистый михрютка. Посадил его на скамейке, наказал ждать, а ему уже хорошо – голову откинул и захрапел. И слава, думаю, богу – мне он сейчас ни к чему. Бабы, знаешь, все одинаковые, но татарки – те совсем та статья, – купилась.
Постучал я так культурненько в окошко, она выглянула.
– Гульнара, открой-ка.
– Кто?
– Михал Михалыч с таксопарка.
– Это вы? Что с Равилем?
– Ты мужика из дому прогоняла? – Стоит, лицо, смотрю, каменеет. Ну, это хорошо. – А ты знаешь, где он сейчас?
– Что случилось, Михал Михалыч?
– Ты Нельку с Любашей знаешь? – (А кто их в городе не знает.) – Так вот. Твой забрел к ним, денег у них занял двести рублей, поил всю эту бичевню, с трудом я его вызволил. Имей в виду, я под честное слово его увел – завтра уже не двести, а двести пятьдесят отдать надо будет. Ты девок знаешь – к ним не один такой на крюк попадал, да и вообще, мне казалось, тебе неприятно будет, если в городе узнают.
– Ой, Михал Михалыч, дорогой, как мне вас благодарить?
– Ты, – говорю, – давай шустрей двести рублей неси.
– Ой, я одним моментом. Убежала. Принесла.
– Точно знаете, не больше?
– Знаю, знаю, не бойся, в другой раз думать будешь.
– Так он, Михал Михалыч, сам ревнует.
– Ревнует – значит, любит, ты б помягче к нему, помягче, учить вас, – говорю, – девоньки, и учить.
– Ой, спасибо, Михал Михалыч, спасибо вам, век вас не забуду.
Пошли мы на лавочку, взяли Равилька под руки. Она идет, все его гладит, как бычка, за ухом, что-то шепчет ему по-своему, а он только головой мотает да улыбается во сне. Довели, положили на кровать. Так Гульнара, добрая душа, мне еще и бутылку вынесла – расчувствовалась. И с тех пор где меня встретит – здоровается, а стала важная – директриса уже, одни серьги на «Жигули» потянут.
А Игорек мой вскоре из такси уволился (двести-то рублей я ему наутро отдал, да с ним же вместе и посмеялся), перешел в мясники. Только развернулся – мне, между прочим, всегда любое мясо по госцене, – как Гульнара ему шах кидает – зам. зав. магазина! А тут вдобавок по мужской части… Вот здесь же, в моей бане, стал он на руках бороться с заезжим мужиком. Тот предупредил, что чемпион Свердловска по армреслингу, но Равиль – петух. Жался до последнего и дожался – связку порвал. Вдовин из больницы прописал ему операцию и запрет на культуризм, а Игорек только над профилем мышц начал работать; тут штука сложная: остановишься – мигом вширь поползешь. Словом, полгода псу под хвост – три операции, денег уйму выкинули. Склепали ему руку – сохнуть не станет, но уж прежней силы не видать.
И, что удивительно, не запил мужик, крепкий мишук оказался. Перешел на бензоколонку, к кооператорам, а там – сам знаешь, что за дела. Встретил его как-то, говорю: «Равилька, кончай хреновиной заниматься, до добра не доведет». А он: «Знаю, дядя Миша, но не могу», и такая в глазах печаль – мишук, истинный мишук. «Мебельный, – говорю, – все равно тебе не переплюнуть – тут либо к айсорам надо идти в обучение по камешкам да рыжью, но они же навроде вас татаров – не возьмут чужака, либо кооператив строительный организовывать – а у тебя на то образования нехватка, так что смирись, парень, и все у тебя будет, и чай, и кофе, и какао со сливками».
Не внял. Жизнь мат поставила. Гульнара директрисой стала, а он – вроде как героем.
Чечены с осетинами к нам понаехали, принялись бензоколонку к рукам прибирать, так Равиль их погонял крепко: троим хребтины перебил, одному голову проломил молотком своим (это левой – успел перестроиться), одного на тот свет отправил – к праотцам-джигитам. Бензоколонку отстояли, но на скамейку подсудимых поприсел.
Я на том суде был – народу много набилось. С одной стороны – чечня, с другой – наши. Адвокатов из столицы выписали. Прокурора и судей закупили, конечно, но, как ни крути, вышло Равильке пять лет (самооборона вроде – чечня на него с ножами лезла). Там много чего всплыло, много чего и замяли – обычный, словом, процесс, – раз в два года у нас такие случаются. Народ, конечно, за них горой стоял, окромя газетчиков. Те – вечные сороки: «Суд над мафией!» Смех, смех, да и только! Чечня, к слову, ту бензоколонку потом все равно откупила.
Равиля когда уводили, Гульнара закричала было, но он так цыкнул на нее: «Молчи, ребята о тебе позаботятся!» Она и подавилась.
Я видел, какими глазами его провожала – как тогда на крыльцо вела, а он-то, он-то – гордый, мишук, уходил. Победил ее, что и говорить. На зоне такие не пропадают – за одни бицепсы угловым поставят, да плюс легенда, как он чечню лохматил, да и деньги Гульнарины – на зоне деньги все делают.
Леди Макбет
Все. Дошла до ручки. Начала таблетки собирать.
Как-то бабы говорили, что пьяниц не вскрывают. А если и вскрывают – так поди докажи: сам нажрался. Они сейчас чего только не потребляют. Одна горсть – и кляп с ним!
Она решилась – стала копить таблетки, что ей невропатолог после отрезвителя прописала.
Ведь как было – он пил-гулял с пол, наверное, года. Зарплату домой – ни копейки. Пришел в тот день под газом, конечно, а им зарплату давали, она в курсе. Хорошо. Грешным делом, решила подпоить, а потом и вытянуть хоть остаточек. Ему добавила, сама, дура, стакан махнула – для успокоения нервов. Развезло его, но и ее, впрочем, зацепило. А как спросила: «Где деньги?» – он и пошел хохотать, а потом еще с кулаками. Ну и вызвала отрезвитель. Так он, змей, к их приезду начистил зубы, голову под душем отмочил, а потом, как в дверь зазвонили, взял с плиты кастрюлю щей и на голову вывернул. Милиционеры входят, а он вопит: «Спасите, ребята, слепну!»
Что? Как? Кто поверит?
«Пила?» – «Пила». – «Деньги мужик носит, что тебе, дуре, еще надо?»
Видит – лежат на холодильнике: успел выложить. И – в рев! И колотит ее, и тошнота к горлу подступает, а он комедию ломает – стонет. И как понесла их, гадов, как понесла – ровно на пятнадцать суток накричалась.
Мать, конечно, Сереженьку забрала к себе, а он… Пришла – стены голые – все пропил. Сидит на тахте, ухмыляется:
– Будем новую жизнь начинать или как?
Ноги подкосились… и – на колени… и – в рев-вой, и… такая у них опять любовь пошла, как когда-то давно, когда Васеньку делали.
С Васеньки и началось. Выбежал на улицу, попал под машину. А он в командировке был. Соседи, добрые души, донесли, конечно, что у нее в тот день гуляли – подружкин день рождения справляли. И как отрезало. Бил – больно бил, проклинал, потом сам пить начал.
А она? Она – не мать, она не жалела? Ей свою вину всю жизнь носить. Ей помнить, но ведь и прощение должно же быть. Ведь она после отрезвителя стыд-то переборола…
А он не человек уже – зверь и тот лучше, а Сереженька растет – все видит. За дверью вечером сидят, на два замка закрылись – вставил ей парень с работы. А он колотится: «Убью!» И парень тот на подозрении. И любой чих плох. И жизнь его не удалась.
Нет, решилась – стала таблетки копить. Ведь алкоголик – страшно. Скольких они поубивали, и детей даже. «Давай разменяем!» Не дает. Спать вместе – не спит, но претензии предъявляет. А где спать – если каждый вечер… Каждый… А ведь не двадцать лет…
После отрезвителя неделю и держался. Как прошлый был. В кино в воскресенье сходили, а после – шампанского выпили и крышка. С той поры не просыхает.
В ЛТП сдать – убьет. Боится она его. И позор свой не забыть. Не отмыть. Девки говорят – плюнь, найди другого, подговори – пусть ему хлебало начистит. Но как бы сказать? Поточнее чтобы… Не в хлебале дело. Замок парень ей не за просто так ставил – тут он чует верно, но таких парней с тоски – дались они… Нет, тут надо разом кончать. Будут вскрывать – не будут – конец один.
Ну как их не копить? Приполз еле-еле, калошей паленой разит – «БФ» они потребляют. Нет, копить, копить!
Ночью сперва не поняла – завопил-замычал – думала, как обычно, но вывалился в коридор, глянула: «Святый Боже!» И – «Скорую». Промывать – промывали, но что толку – эссенция уксусная. Она у него под кроватью в бутылке водочной стояла. Врачи решили – обознался, но она знала – давно пугал. Допугался – без таблеток обошлось.
А когда хоронили, подружки еле от гроба оттащили – пошла кричать. Так в детстве паровозы кричали – страшно было их слушать, если рядом стоишь.
Крепость
А. Немзеру
По раннему утру, по залитому солнцем городу, по улицам с молодой зеленью лип и тополей, среди редких пешеходов, продвигается человечек. Он не молод, но еще и не так стар, чтоб звать его дедушкой. Старит его скорее облик, раз навсегда принятый, закрепленный чудной одеждой: серая шапчонка, помятая, но аккуратно надеваемая, любимая, как в одиноком дому дворняжка. Далее – очки с особыми линзами: толстые кружки врезаны в едва изогнутое стекло, за ними – размытые работой серые глаза, порой глуповато-доверчивые, но чаще отрешенные, невнимательные к окружающему до надменности. Ниже – воротничок тяжелого, не по погоде пальто, с толстым хлястиком, толстой черной пуговицей, затворяющей эти драповые ворота по-мужски направо. Ниже – брючки, ничем не выразительные, и башмаки тяжелого хода, отвратительной местной строчки. В руке – коричневый портфель. По весенней улице, словно не замечая ее раз в году случающейся чистоты, без особых эмоций и волнения продвигается, именно что не идет, бронированный человечек, человечек – сам-себе-крепость, не потому столь закрытый, что все вокруг плевать на него хотело, а, кажется, потому, что сам, раз отстранившись, имеет с окружающим мало общего. Продвигается он немного наклонившись вперед, не как согбенный болезнью, а как противоборствующий встречному ветру – ежедневное сидение за столом слепило так.