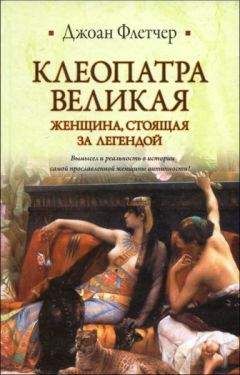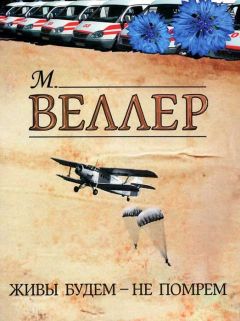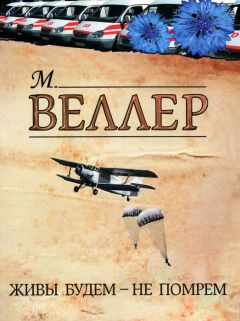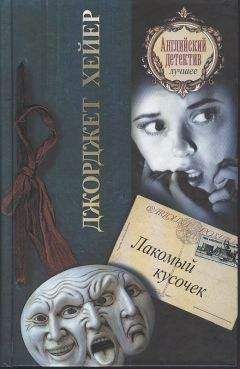Э. М. Хоумс - Да будем мы прощены
– Ни одна душа, – отвечает Джордж. – Я оставлен всеми, как Христос на кресте.
Меня забавляет грандиозность сравнения. Джордж здесь – и Христос на кресте.
– Ты с кем-нибудь здесь дружишь?
– Не-а. – Он встает из-за стола. – Тут псих на психе сидит и психом погоняет.
– Куда ты?
– Отлить надо.
– Тебе разрешено ходить одному? – спрашиваю я с неподдельной тревогой.
– Может, я псих, но не младенец. А ты козел.
Джордж выходит.
Розенблатт, отрываясь от своих диаграмм, кидает на меня взгляд – дескать, все ли в порядке?
Я показываю большой палец.
Столовая пуста, если не считать официанта, расставляющего столы на завтра, и уборщика, который чистит ковер.
Когда Джордж возвращается, мы как будто начинаем заново. Он пахнет лосьоном на спирту.
– Я «Пюреллом» намазался, – говорит он. – Сперва руки и лицо, и так стало хорошо, что я еще и рубашку снял и подмышки намазал. Люблю этот запах – здорово бодрит. Гервин меня на эту штуку подсадил. Я вижу, как он целый день моется, – и не могу не ломать голову, что же здесь такое происходит, отчего он себя чувствует таким грязным.
Джордж подмигивает.
Я подмигивания не замечаю и рассказываю ему, как ездил в школу на родительский день.
– Представляешь, мне пришлось остановиться в пансионе «кровать-завтрак» за сто восемьдесят в сутки. Все было занято, меня поселили в комнату для ребенка. И всю ночь у меня над головой крутился этот дурацкий мобиль «Хелло-китти».
– У меня номер в «Шератоне»; забронирован и оплачен на ближайшие пять лет.
– Откуда мне было знать?
– Неоткуда.
– Вот потому-то я и здесь: есть вещи, которые мне нужно знать. Как ты думаешь: должны дети тебя видеть? Стоит им приехать на уик-энд?
– Не думаю, что дети здесь приветствуются, – отвечает он. – Я ни одного не видел. – Джордж задумывается. – Ты помнишь тот день – давным-давно, когда нам было восемь или девять – я тогда ударил незнакомого, какого-то типа, который шел по улице?
Я киваю. Кто бы мог забыть?
– Это была фантастика, – говорит Джордж с нескрываемым удовольствием. Видно, что даже сейчас ему приятно. – Он прямо на глазах согнулся, спросил, что за черт, а я помню, как это было фантастически кайфово. – Он встряхивает головой, будто проясняя мозг от воспоминания и возвращаясь к реальности. – Мы тогда были мелкими веселыми гадами, которые чего хотели, то и брали.
Я пожимаю плечами:
– Кстати, о странностях. Мне тут все время приходит на ум одно и то же воспоминание. – Я замолкаю на секунду. – Мы с тобой трахали миссис Йохансон?
– Что значит «мы»?
– Я помню, как мы с тобой эту нашу соседку дрючили. Ты ее обрабатывал у нее на двуспальной кровати, а я тебя подбадривал, выкрикивал: давай, давай, давай! А потом, когда ты все сделал, она еще захотела, и я тогда ей выдал.
– Я ее трахал. Может, тебе про это рассказывал, – говорит Джордж. – Я им газон стриг, иногда она меня приглашала лимонаду выпить, а потом стала приглашать на второй этаж.
Так оно и было? Джордж ее имел, мне рассказал, а я уже нафантазировал, что тоже там был? Но так ярко разворачивается перед глазами картинка. У Джорджа здоровенный багровый, он входит и выходит, а у нее платье задрано, темная материнская пещера зияет, как свежая рана.
Я на миг затихаю, вдруг выдохшись.
– Ты козел, – говорит Джордж, пока я складываю гармошку, собираясь уходить. – Ты мне ничего про маму не рассказал. Как она? Она про меня спрашивала?
Я напоминаю Джорджу про свой недавний инцидент и рассказываю, что последнее время маму не видел, но работники приюта говорят, что у нее все в порядке. Я ему рассказываю про ползание, и он неприятно удивлен, встревожен.
– Она по полу и ползает, как таракан?
– Так они говорят. У них там фотографии есть. Если хочешь, посмотри.
– Ты должен ее навестить, – говорит Джордж. – Как только отсюда поедешь, должен заехать к ней и увидеть все сам.
– Это у меня записано, – говорю я. – Еще что-нибудь, о чем я должен знать?
– За розами моими смотри, – велит он. – Подкармливай почаще, опрыскивай, смотри, чтобы не завелись там тли или трипсы, черные пятна, гниль или какая другая зараза. Любимая у меня – это розовая «Гертруда Джекиль» у входа.
– Постараюсь, – отвечаю я. – У тебя есть какой-нибудь список, кто чего чинит в доме? Водопроводчик, электрик, газонокосильщик и так далее?
– Понятия не имею, у Джейн спроси, – бросает он, и мы замолкаем.
– Пора ложиться спать, – говорит пришедший за нами Розенблатт.
С ним Тесси, и мы с Джорджем одновременно тянемся за поводком.
– Она пойдет со мной, – говорит Джордж.
– Джордж хочет собаку, – говорит Розенблатт.
– Это моя собака, – говорит Джордж.
– А я все время с ней вожусь, мы привязались друг к другу. – Это уже я.
– Я мог бы изобразить сурового отца и решить, что ни с кем из вас Тесси спать не будет. Однако не стану. Сегодня собака побудет у Джорджа, потому что во все остальное время она у вас.
– Мой верх! – кричит Джордж, выхватывая у Розенблатта поводок.
Меня выводят через заднюю дверь в холодную ночь и ведут к моей комнате, срезая путь. Мы минуем двери, открывающиеся жужжанием электромоторов, проходим через зоны, с двух сторон запертые на замок, и я все думаю, что делать, если, упаси господи, ночью понадобится выйти.
– Я знаю, о чем вы думаете, – говорит Розенблатт. – Вы не волнуйтесь, двери заперты только в одну сторону, выйти вам можно будет.
У двери моей комнаты он продолжает:
– Как хорошо, что вы приехали. Очень хорошо.
У меня такое чувство, будто он хочет меня обнять.
– Ну, ладно, до завтра, – бросаю я, быстро ныряю в комнату и закрываю дверь. Подпираю ручку стулом. Теперь не только я не выйду, но и никто не войдет.
При взгляде на сумку Тесси, стоящую на полке рядом с моей, я остро ощущаю свое одиночество. Как же мне теперь заснуть без собаки, без телевизора, без чего бы то ни было, что может отвлечь от этого кошмара?
Я открываю сейф, вытаскиваю свои лекарства, читаю инструкции и понимаю, что забыл принять за едой таблетки к ужину. Остается надеяться, что все будет нормально, если принять их сейчас с таблетками на ночь. Проглатываю восемь разновидностей таблеток и капсул, переодеваюсь в пижаму, залезаю в постель.
По сравнению с этим гробом комната «хелло-китти» в пансионе выглядит как номер отеля «Времена года». И мне даже не хватает хомяка, тяжелого взгляда глаз-бусинок, немолчного скрипа колеса. Тут единственное, что слышно, – тишина склепа.
Чтобы унять мысли, я думаю о Никсоне, о его любви к боулингу, излюбленных его конфетках – «скиттлс», о его отношении к жизни. «Человек кончается не тогда, когда его победили. Он кончается тогда, когда прекращает борьбу». И еще: «Не думаю, что лидер в какой-то серьезной степени может управлять своей судьбой. Редко когда он может сделать шаг и переменить ситуацию, если силы истории направлены в другую сторону». И это: «Вполне готов это выдержать. Чем труднее, тем я спокойнее».
Я думаю о своей книге, о том, что с ней делать дальше. Думаю о матери, ползающей как таракан. О том, как Джордж в огромном пижамном комбинезоне приходит на сестринский пост и говорит:
– Хочу молока.
– Кухня закрыта, вернитесь в постель.
– Хочу молока!
Всполошившаяся сестра нажимает кнопку под стойкой, и со всех сторон входят крупные мужчины с дубинками и тазерами. Они бьют Джорджа током, он падает на пол, и его везут обратно в постель на чем-то вроде грузовой тележки.
Слышится топот тысяч ног – люди бегут и влетают в стену, и я соображаю, что рядом с моей комнатой – автомат раздачи льда, и сейчас его как раз загрузили.
Я впадаю в панику, мне не хватает воздуха. Вдруг мне оказывается совершенно необходимо узнать, что там, за синим бархатным занавесом. Раздергиваю его одним сильным рывком – хуже, чем ничего, там просто шлакоблочная стена. Ищу окно – нахожу только маленькую отдушину в ванной. Прижимаюсь к ней ртом, втягиваю воздух, чувствуя, что здесь ядовитое что-то, что меня ждет смерть. Бросаюсь обратно к сейфу, вытаскиваю запас «амбиена», будто это противоядие. Почти никогда не принимал снотворного, но сегодня глотаю сразу две таблетки, засасываю еще несколько вдохов из отдушины и заставляю себя вернуться в постель.
Просыпаюсь от оглушительного грохота. Стул, заткнутый под дверную ручку, шевелится, подпрыгивает. Слышен приглушенный голос:
– Вы не спите? Все в порядке?
Более секунды у меня уходит, чтобы привести язык в движение.
– Всевпрдке! – кричу я в сторону двери, и стул перестает дергаться.
– Завтрак пропустили, – снова слышится голос. Это Розенблатт.
– Охтыгспди.
Наверное, это я так реагирую, понимая, что проспал.
– Двадцать минут вам хватит?
– Сьюминуту.
Я тащусь в ванную, чувствуя, что теперь мне понятно, каково было бы прожить двести пятьдесят лет. Принимаю холодный душ, разговаривая вслух сам с собой, четко артикулируя слова. Через двадцать минут я уже одет, сижу на стуле, которым подпирал дверную ручку, жую батончик из корзинки и гадаю, что принесет этот день.