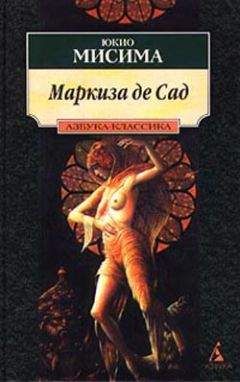Юкио Мисима - Запретные цвета
Вернувшись в кабинет, Сюнсукэ немедля засел за дневник. Он погрузился в него с головой, описывая мучительные подробности этого тайного свидания на рассвете. Его рука будто намеренно писала неразборчиво, чтобы в другой раз он не смог прочесть ни строчки. Страницы этого дневника и дневников десятилетней давности, которые заполняли книжные полки, буквально пестрели проклятиями в адрес женщины. Если эти проклятия не возымели действия, то по той причине, что они исходили не от женщины, а от мужчины.
В дневнике его много места занимают не столько поденные записи, сколько афоризмы и фрагменты, поэтому легко будет процитировать какой-нибудь художественный отрывок. Вот что он писал в дни своей юности:
Женщины ничего, кроме детей, не приносят в этот мир.
Помимо детей мужчина может быть творцом разнообразных вещей. Творчество, воспроизведение и размножение — мужские способности. Зачатие у женщины — не более чем часть ее материнской заботы в воспитании ребенка. Это старая истина. (Кстати, Сюнсукэ не завел детей из принципа.)
Женская ревность — это просто ревность к творческому дару. Женщина, которая рожает сына и занимается его воспитанием, наслаждается местью против творческих способностей мужчины. Она оживает, когда препятствует его творческим наклонностям. Страсть к потреблению и роскоши является разрушительной страстью. Женский инстинкт побеждает везде и всюду. Капитализм — исконно мужская теория репродуктивности. Ум женский, однако, подточил его основание. В итоге капитализм превратился в экстравагантную теорию роскоши, и вскоре он докатился до военных баталий — и все благодаря каким-то Еленам. Вероятно, в далеком будущем такая же участь ожидает и коммунизм, и сгубит его женщина.
Где угодно выживет женщина, и царствует она как ночь. Поистине над всем возвышается ее низменная природа. Все ценности она стягивает в болото своей чувственности. Ни одна доктрина не доступна женскому пониманию, абсолютно! Ну, еще какой-нибудь «…тический» она поймет, а «…изм» — это уже сверх ее ума. И не только в теории она недалека. Она не осознает даже самой атмосферы, а все потому, что лишена самобытности. Учуять-то она ее учует. Нюх у нее как у кабанихи. Парфюм — это мужское изобретение, выдуманное для того, чтобы развить женское обоняние. Благодаря этим ароматам мужчине удается улизнуть от нюха женщины.
Сексуальное очарование женщины со всеми ее уловками только доказывает, что она ни на что не годится. Ведь то, что полезно, не нуждается в кокетстве. Какая тщета, если мужчина стремится быть привлекательным для женщины! Для духа мужчины это оскорбление! Женщина не ведает, что такое дух, она наделена только чувственностью. Ее магическая чувственность питается смехотворными противоречиями — прямо как самодовольный солитер! Бывает, что материнство делает женщину поразительно возвышенной натурой, но в действительности оно не имеет никакого отношения к духу. Это просто такой биологический феномен, качественно не отличающийся от жертвенной материнской любви, которую мы наблюдаем в животном мире. Дух должен рассматриваться с точки зрения качественных отличий, которые отделяют людей от других млекопитающих животных…
Эти «качественные отличия» духа (скорее всего это называется способностью к вымыслам, только человеку и свойственной) могут быть обнаружены на всунутой между дневников фотокарточке двадцатипятилетнего Сюнсукэ. Безобразность черт его уродливого и юного лица имела как бы рукотворное, а не природное происхождение: на снимке угадывался человек, прилагающий изо дня в день много усилий, чтобы увериться в собственном уродстве.
В его дневнике того года, прилежно написанном по-французски, встречались небрежные и непристойные места. В нем раза два или три было размашисто перечеркнуто крест-накрест слово «вагина». Он проклинал темное женское начало.
Сюнсукэ женился на воровке и сумасшедшей не потому, что рядом не оказалось подходящей женщины. В его окружении вращались и женщины «одухотворенные», которые были бы не прочь увлечься этим одаренным молодым человеком. Однако создание, именуемое «одухотворенной» натурой, оказалось вовсе не женщиной, а чудовищем в женском облике. В любви Сюнсукэ чаще всего приходилось терпеть измены от тех женщин, которые упорно не хотели понимать его единственную сильную сторону, его единственную красивую черту — его духовность. Вот на них-то и можно было бы поставить клеймо подлинности. Это были настоящие женщины. Сюнсукэ влюблялся только в красивых женщин, в этаких мессалин, уверенных в собственной красоте и не нуждавшихся в какой-то там духовности.
Перед глазами Сюнсукэ всплыли нежные черты третьей жены, умершей три года назад. В пятьдесят лет она и ее любовник, моложе ее почти в два раза, покончили с собой. Сюнсукэ понимал, почему жена отважилась на такой поступок. Она не представляла своего совместного будущего со стареющим безобразным Сюнсукэ.
Тела любовников-самоубийц нашли на мысу Инубо. Бурными волнами оба трупа забросило на высокие скалы. Было нелегким делом снять их с вершины. Перетянув утопленников за бедра веревками, рыбаки передавали их со скалы на скалу, вокруг которых клубился туман, пенился и грохотал прибой.
Так же нелегко было разнять два мертвых тела. Они буквально сплавились друг с другом, как два мокрых листа бумаги; их кожа, казалось, стала единым целым. С трудом отделенные останки жены Сюнсукэ по желанию мужа были отправлены в Токио, чтобы там предать их кремации. Прощание было пышным. Отдали последние почести, настало время выноса тела из помещения. Гроб перенесли в другую комнату, и супруг, состарившийся в одночасье, остался один на один попрощаться с телом. Лилии и гвоздики погребали мертвое, страшно разбухшее лицо, полупрозрачные кончики волос отсвечивали синевой, виднелись ровные ряды корней. Сюнсукэ вглядывался в крайне безобразное лицо пристально и бесстрашно. Это лицо внушало злость. Оно больше не причиняло ему страданий и не нуждалось в красоте — не поэтому ли лицо ее казалось таким отвратительным?
Он взял бережно хранимую маску девушки театра Но и положил на мертвое лицо. Нажал что есть силы, пока лицо утопленницы не продавилось, как перезревший фрукт. Никто не знал, что он делал в комнате, ведь через какой-то час все следы пожрал огонь.
Дни траура Сюнсукэ метался то в муках, то в злобе. Когда он вспоминал предрассветное летнее утро, означившее начало его страданий, его пронзала такая острая боль, что он с трудом верил, что жена уже не жива. Соперников у него было больше, чем пальцев на руках, — с их юношеским нахальством, с их ненавистной красотой… Одного из них, паренька, он в порыве ревности поколотил палкой по чем попало, тогда жена пригрозила бросить его. Он попросил у жены прощения и откупился костюмом для паренька. Позднее этот юноша был убит на войне в Северном Китае. Сюнсукэ многословно, захлебываясь от восторга, писал в своем дневнике о его гибели; затем, как одержимый, блуждал по городу. На улице его теснили отправляющиеся на фронт солдаты и провожающие. Сюнсукэ пристал к одной группе людей, окружившей воина, который прощался с красивенькой девушкой, его невестой, и с радостью помахал бумажным флажком. В этот самый момент один пронырливый репортер щелкнул фотоаппаратом, и огромная фотография Сюнсукэ, махающего флажком, появилась в газете. Кому могло прийти в голову, что этот чудаковатый писатель своим флажком благословлял солдат на смерть на полях сражений, где недавно погиб тот ненавистный ему юноша?