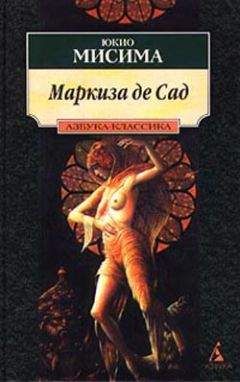Юкио Мисима - Запретные цвета
До полудня было еще далеко. В автобусе сидело всего несколько пассажиров — все из местных. Они распечатали бамбуковые коробочки; завтракали рисовыми колобками и маринованными овощами. Сюнсукэ пока не чувствовал голода. Когда мысли занимали его ум, он поглощал пищу машинально и забывал о съеденном, а потом удивлялся, что ходит с полным брюхом. Ни умом, ни телом он не замечал повседневности.
Парк К. — вторая остановка от администрации города К. Здесь никто не вышел. Дорога, по которой курсировал автобус, пролегала через огромный, раскинувшийся на тысячи гектаров от горных склонов до побережья парк, разделяя его пополам с горой в центре в одной части и морем в другой. Сюнсукэ скользил взглядом по густым зарослям кустарника, шелестящим под бризом, по безлюдной и безмолвной игровой площадке, по темно-синей эмалевой, прерывистой полоске моря, по неподвижным теням разнообразных качелей на сияющем песке. Чем очаровывался Сюнсукэ, глядя на этот огромный, притихший с утра в самый разгар лета парк?
Автобус затормозил на углу маленького хаотичного городка. Городская управа не подавала признаков жизни. Из распахнутых окон виднелись сияющие белизной лакированные круглые столешницы без единого предмета на них. Навстречу с поклоном вышли гостиничные служащие. Сюнсукэ поручил им свой саквояж, а сам по их приглашению неспешно двинулся вверх по каменной лестнице сбоку от храма. Жары почти не чувствовалось благодаря ветерку с моря. В воздухе завис вялый стрекот цикад — знойные шерстяные звуки. На полпути Сюнсукэ снял шляпу и остановился немного отдышаться. Внизу в блюдце-гавани прикорнул зеленый пароходик. Послышался прерывистый шепоток — звук выпускаемого пара. И тотчас все стихло. Все же мерещилось, что эта дремотная бухточка, обрамленная примитивной кривой каменистой линией, заполнилась меланхоличным шелестом крыльев назойливо-докучливых мух — сколько ни отмахивайся от них, все безуспешно.
— Какой красивый вид!
Сюнсукэ озвучил свою мысль, словно хотел отмахнуться от нее. Вовсе ничего красивого.
— Сэнсэй, а вид из гостиницы намного прекраснее.
— Правда?
Не из радушия, а из простой скуки он не ответил остреньким сарказмом. Почему-то ловкость в общении давалась стареющему писателю с большим трудом.
Сюнсукэ расслабился только в комнате — в самом лучшем номере гостиницы. По пути он несколько раз пытался задать небрежно один вопрос, но что-то его затрудняло. Боясь разволноваться, он спросил горничную:
— Сегава в вашей гостинице проживает? Это девушка.
— Да, проживает.
Все задрожало внутри у Сюнсукэ. Растягивая слова, он продолжил расспрашивать:
— Одна приехала?
— Да, пять дней назад прибыла. Она поселилась в комнате «Хризантема».
— А сейчас она в номере? Ее отец мой приятель.
— Она ушла в парк.
— Одна?
— Нет, не одна.
Горничная не уточнила, с кем именно ушла девушка. Сюнсукэ растерялся. Он не знал, как выведать о ее спутниках и при этом не выказать своего сугубо личного интереса. Сколько их и кто ее друзья — подруги, мужчины или, может быть, один мужчина?
Не кажется ли странным, что этот естественный вопрос даже тенью не промелькнул в его голове раньше? Глупость пребывает в равновесии — не потому ли ей приходится подавлять здравые доводы нашего разума, чтобы сохранить его?
Скорее по принуждению, чем по уговору стареющий писатель полностью отдался навязчивому гостиничному обслуживанию и между купанием и обедом не знал ни минуты покоя. Наконец его оставили одного. Сюнсукэ охватило сильное возбуждение. Это беспокойное чувство подтолкнуло его на недостойный джентльмена поступок. Он прокрался в комнату «Хризантема». Номер-«люкс» был прибран. Сюнсукэ открыл европейский платяной шкаф в примыкающей комнате и увидел мужские белые трусы и белую поплиновую рубашку. Рядом с ними висел женский гарнитур в белую полоску с аппликацией в тирольском стиле. Он взглянул на туалетный столик с зеркалом, где лежали белила, восковой карандаш для волос, пудра, крем и губная помада.
Сюнсукэ вернулся в свой номер, позвонил в звонок. Пришла горничная, и он заказал автомобиль. Пока он переодевал пиджак, подъехала машина. Он поехал в парк К.
Велев водителю ждать, он вошел через ворота в парк, который оказался по-прежнему безлюдным. Ворота новые, под аркой из природного камня. Моря отсюда совсем не было видно. На тяжелых ветвях шелестела под ветром темно-зеленая листва, словно далекий прибой.
Сюнсукэ решил спуститься на пляж. Ему сказали, что там каждый день купается одна парочка. Он покинул игровую площадку и свернул на углу небольшого зоопарка. Тень от клетки, где подремывал на задних лапах барсук, проплыла по его спине. В вольере, спасаясь от жары, прикорнул черный кролик промеж двух прильнувших друг к другу ветвистых кленов. Сюнсукэ стал спускаться по каменным, поросшим густой травой ступеням; за буйным кустарником открылось ему океанское полотно. От края до края, насколько хватало глаз, раскачивались ветви. Вдруг над головой Сюнсукэ с одной ветки на другую летягой проворно прошмыгнул ветерок. Порой грубый порывистый ветер играючи набрасывался, словно крупная незримая зверюга. Все это утопало в нещадном солнечном свете, все это заливал нещадный цикадный звон.
Какой тропинкой спуститься к пляжу? В самом низу поселилось семейство сосен — видимо, к ним сбегали окольным путем каменные, заросшие сорняками ступени. На Сюнсукэ плеснуло солнечным потоком сквозь ветви и тотчас ослепило ярким светом, отраженным травой. Он почувствовал, как все тело его покрылось испариной. Лестница вильнула в сторону. Наконец его нога ступила на узенькую полоску песчаного пляжа у подножия утеса.
Здесь тоже никого не было. Утомленный походом, стареющий писатель присел на каменный валун. Он злился на себя, что его угораздило прийти в этакую даль. Вся его жизнь с громкой славой, религиозным благолепием, суетной деятельностью, случайными дружками и неизбежным в таких обстоятельствах ядом зависти, в общем, не понуждала его к эскапизму. В крайнем случае, ему было бы предпочтительней сойтись с каким-нибудь компаньоном, чтобы бежать от жизни.
Хиноки Сюнсукэ заимел на удивление обширные знакомства, в кругу которых актерствовал с таким мастерством и с такой сноровкой, что тысячи его зрителей и поклонников чувствовали, будто каждый из них является единственным приближенным к его персоне. Его ловкое искусство общения попирало законы перспективы. Ничто не могло подпортить его репутацию — ни восторг, ни насмешка. По одной простой причине: ко всему этому он был совершенно глух… И только теперь Сюнсукэ трепетал от предчувствия поражения, от пронзительного желания, чтобы его ранили; именно это чувство могло подтолкнуть его на изысканное бегство в его собственном стиле. Одним словом, под занавес своей жизни он нуждался в крепкой затрещине по самолюбию.