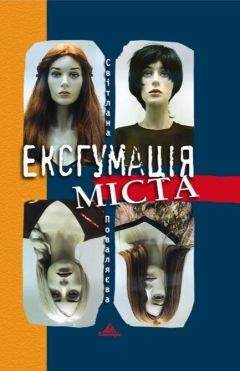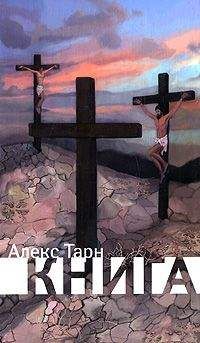Алекс Тарн - Одинокий жнец на желтом пшеничном поле
— Это да, — снова вздохнул Леша. — Хорошо. Если ты так настаиваешь, я подумаю. Ты сейчас откуда и куда?
— С выставки! — радостно сказал Анатолий. — Это нечто, Леша. Ты уже был?
— Нет. Пока что меня пугает очередь. Пойду ближе к концу.
— Обязательно сходи! — воскликнул Анатолий. — Обязательно! Знаешь, это сплошное открытие, а не выставка. Столько радости, света! Удивительные краски, совсем непохожие на то, что в альбомах. Репродукции совершенно не передают. Совершенно! Все-таки это поразительный художник! Такая любовь к жизни, к природе, буквально физическое ощущение материи — даже небо пишется густыми крупными мазками. Смотришь — и хочется жить, жить, жить…
Леша шел молча, поглядывая исподлобья и крутя в пальцах потухшую папиросу. Кисти рук у него были тонкие, хрупкие, как у ребенка, а суставы припухшие, как у старика.
— Насчет «хочется жить» ты скорее всего преувеличил, — мягко возразил он. — Учитывая факты его реальной биографии. Свои самые лучшие… гм… правильнее было бы сказать «самые популярные» вещи он написал уже будучи абсолютно сумасшедшим… гм… с медицинской точки зрения. Причем результирующий вектор его помешательства был со всей определенностью направлен в сторону самоуничтожения…
— Нет, Леша, нет! — перебил Анатолий. — Я тоже так думал — до того как увидел эти картины живьем. Знаешь, там есть один из его знаменитых «Жнецов». Тот, где солнце самое низкое: в трех остальных вариантах оно уже поднялось над горизонтом, а здесь еще будто вскатывается вверх по горке. Так вот: холст прямо-таки дышит оптимизмом и радостью жизни. Ведь это восход, понимаешь? Восход, начало рабочего дня. Впереди весь день, вся жизнь, и на небе ни облачка. Нет и тени того, о чем ты говоришь. Вернее сказать, нет тени вообще! Конечно, он был болен, глупо отрицать. Но при этом искусство оставалось его единственным лекарством — тем, что держало его на земле, как этого жнеца — на желтом пшеничном поле. Он погиб не благодаря искусству, а вопреки ему! Уверяю тебя, если бы он не имел возможности писать, то покончил бы с собой намного раньше. Поэтому темп его работы в последние месяцы был поистине бешеный.
Леша остановился и зажал портфель между коленями, чтобы достать папиросную пачку.
— Я не большой специалист в этом вопросе, — сказал он, закуривая. — Если не ошибаюсь, все его «Жнецы» написаны во время пребывания в психиатрической лечебнице?
— Да, в Сен-Реми. И, между прочим, доктора прописали ему занятия живописью именно в профилактических целях.
— Гм… снова, я боюсь ошибиться, но разве эта профилактика не включала в себя преимущественно копирование образцов Милле, известного своей уравновешенностью и покоем? Брат специально присылал ему репродукции.
— Ну, присылал. И что с того? Что это доказывает?
— Да ничего не доказывает… — Леша пожал плечами и продолжил движение. Он передвигался маленькими частыми шажками, ставя ноги носком наружу. — Кроме того, что, возможно, профилактикой был именно Милле, отвлекавший его от кошмаров. Пойми, старик, твоя трактовка вовсе не единственная. Точно с таким же успехом можно утверждать, что живопись загнала его в гроб, то есть была ядом, а вовсе не лекарством.
Анатолий пожал плечами.
— Не единственная так не единственная… — произнес он слегка обиженно. — Меня это мало волнует. Кстати, мою трактовку разделяют очень и очень многие. К примеру, моя мама, которая, к твоему сведению, специализируется на постимпрессионизме. Да хоть на той же выставке я слышал нескольких экскурсоводов…
Леша насмешливо фыркнул, и Анатолий замолчал. Призванные им на помощь официальные авторитеты мало что весили в глазах диссидентствующего гения.
— Не обижайся, старик… — Леша сильно затянулся, отчего плохой табак в папиросе затрещал, как костер на ветру. — Я в этом вопросе дилетант и говорю, руководствуясь исключительно логикой. А что диктует нам логика? А логика диктует, во-первых, острую необходимость выпить полстакана сухого вина… у тебя есть сорок копеек?
— Есть, — нетерпеливо отозвался Анатолий. — А во-вторых?
— А во-вторых, искусство еще никогда не приносило добра самому художнику. Поверь на слово человеку, изгнанному с кафедры эстетики на пятом году… гм… обучения… — он снова стрельнул снизу и исподлобья виноватым взглядом бездомной собачонки. — Искусство высасывает из человека жизнь, как паук из мухи. Так что твоя версия представляется мне маловероятной, хотя и красивой. Но не расстраивайся, возможно, я ошибаюсь. Я ведь, ты знаешь, изучал Дмитрия Дмитриевича, то есть, гм… совсем другого психа. Хочешь, спросим у Федьки? Он сейчас наверняка сидит в «Скифе». Заодно и мне обещанный стакан поднесешь…
— Обещанный! — фыркнул Анатолий. — Ничего я тебе не обещал. И вообще, поздно уже.
— Там наверняка еще и Джек будет со своей Иркой, и Рита…
Анатолий подозрительно покосился на своего приятеля, но тот все с тем же виноватым видом продолжал частить мелкие шажки: левой-правой, левой-правой, носками наружу.
— А что, Леша, Рита с Федькой… это… вместе?
— Нет, ты что, — как-то даже испуганно отвечал Леша. — Федька же голубой, я разве тебе не говорил?
В «Скифе», маленьком кафе на углу Второй и Среднего, было накурено и жарко. Анатолий заметил Риту еще от входа. Без куртки, в одной обтягивающей футболке, она как раз потянулась к блюдечку стряхнуть пепел, и по гладкости спины стало понятно, что она еще и без лифчика. Он почувствовал, как кровь сразу прихлынула к щекам… хорошо еще, что можно спихнуть это на жару. Кроме Риты, за угловым столиком сидели Джек с Иркой и Федька — всё, как и предсказывал Леша.
Длинноволосый Джек, в миру Женя, художник и признанный центр любой богемной компании, помахал им рукой, призывая взять стулья и подсесть поближе. Анатолию досталось место напротив Риты; он уселся, преувеличенно громко отдуваясь и пряча глаза, все время некстати упирающиеся то в ее грудь, то в насмешливый огонек, пляшущий, как светляк на болоте, в темном мороке полузакрытых глаз. Его неловкость не осталась незамеченной: нахальная Ирка фамильярно ткнула в бок острым локтем и захихикала.
— Что, Толенька, глаза некуда девать? Ты бы, Ритка, пожалела парня. Развесила тут сиськи во все стороны, срамница… Эх, моя милая срамница, у нее… — она подбоченилась и приплясывая задом на стуле, спела непристойнейшую матерную частушку.
Все рассмеялись, а Ирка громче всех. Она вообще была из породы хохотушек — пухленькая, вся в кудряшках, блондинка. На голове у Ирки в любое время года и при любых обстоятельствах красовался лихо заломленный бархатный берет.
— Жарко здесь, вот и сняла… — сказала Рита, улыбаясь своей медленной полуулыбкой. — Извини, Толенька. Не бойся, я тебя кормить не стану.
Последовал новый взрыв хохота. Толстозадая буфетчица в переднике и кружевной наколке над роскошным пергидрольным перманентом шлепнула ладонью по стойке и закричала на них через зал:
— Эй, молодежь! А ну перестали! Вот как вызову, честное слово, вызову! Сидите тут зря, ничего не берете, один убыток с вас, честное слово!
Помимо передника и наколки буфетчица носила звучное имя «Муза» и была известна тем, что осведомительствовала за так, из гражданственных побуждений. Признавая справедливость хозяйкиных притязаний, Джек закивал и поднял в воздух обе руки:
— Сейчас, Музонька, сейчас, девонька… жди гонца! — он наклонился к столу. — Ребята, надо что-то взять. Неудобно. Ей ведь тоже план гнать. Толя…
— Ага, — сказал Анатолий, вставая. — Я возьму. Я и Леше обещал, так что…
Он подошел к стойке и попросил бутылку рислинга. Орудуя штопором, Муза неодобрительно покачала головой.
— Вот ведь бесстыжие… опять мальца обирают… ты бы, Толя, хоть раз отказался, что ли…
Анатолий хотел сказать, что он уже на втором курсе, а вовсе никакой не малец, и вообще вполне может распорядиться своими деньгами сам, без посторонних советов, но вовремя передумал, а то вышло бы совсем уж по-детски. Зато за столом бутылка была встречена восторженно.
— Зачем ты так? — сказал Джек с фальшивым сожалением. — Хватило бы и двухсот грамм на всех.
— Ничего, вчера мне как раз долг вернули, — соврал Анатолий. — Гулять так гулять.
Он вскинул глаза к насмешливым огонькам Риты, и тут же отвел взгляд.
— Ты, говорят, прямо с выставки… долго стоял? — спросила Ирка, закуривая.
— Три часа. Но оно того стоило! — он приостановился, словно проверяя себя. Возможно, это прозвучало чересчур вызывающе? Или слишком восторженно? Анатолий кашлянул в кулак и немного убавил чувства. — Я его очень люблю, с детства. Моя мама…
— Вот скажи, Федька, — перебил его Леша. Леша всегда говорил тихо и ровно, но все в этой компании немедленно смолкали, стоило ему только открыть рот. — Мы к тебе как к эксперту. Помнишь эту картину со жнецом на пшеничном поле? Наш юный друг полагает, что она необыкновенно радостна, полна восхищения жизнью и надеждой. Что желтый цвет, цвет солнца, которого там так много, является тому неоспоримым доказательством.