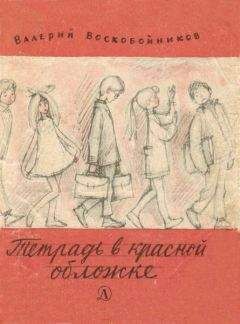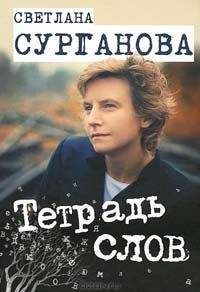Запретная тетрадь - Сеспедес Альба де
13 апреля
Сегодня утром я решила попросить о помощи Гвидо, поскольку он хорошо знает Кантони; я хотела попросить Гвидо убедить его расстаться с Миреллой, которая еще слишком молода, чтобы взвешенно оценивать значимость своих поступков. Я два или три раза входила к нему в кабинет, полная решимости это сделать, и всякий раз откладывала на потом; я ушла последней, и так ничего ему и не сказала. Мне казалось, что он непременно задумается, что же я за мать такая, как я воспитала Миреллу, и я чувствовала, что положение моей дочери ослабило бы мое собственное, а мне и без того уже сложно его удерживать.
Нужно, чтобы я решилась поговорить об этом с Микеле, но мне не хватает духа. Он мрачен и молчалив в эти дни; не думаю, что у него еще остались большие надежды продать сценарий. Сегодня он сказал, что, вообще-то, Клара не сделала все возможное, наверное, считает его докучливым просителем; в конце концов Микеле признался, словно это стоило ему огромных усилий: вчера он почувствовал, что она нарочно не ответила на его звонок. Микеле уже некоторое время постоянно бледен, он не похож на человека, который хорошо себя чувствует. Я сказала, что если бы Клара могла ему помочь, то обязательно помогла бы, потому что она моя подруга детства и любит наших детей, знает их с ранних лет. Выдержав долгую паузу, он сказал: «Позвони ей ты. Может, даже сходи к ней, послушай, что она тебе скажет, расспроси и о том, как она поживает, и как бы невзначай спроси, почему она так занята». Я взглянула на Микеле, удивленная этой его непривычной пытливостью; и – возможно, из-за того, каким он был бледным, – мне впервые показалось, что я вижу в нем пожилого мужчину, которым он станет через несколько лет. «Микеле, что с тобой?» – спросила я. Он ответил: «Со мной? Ничего». И мне показалось, что его губы дрожат. Потом вошел Риккардо, бог знает за что ругая университетских профессоров, и мы не могли продолжить разговор. Риккардо все рассказывал и рассказывал, негодуя, и я все никак не могла хоть сколько-нибудь заинтересоваться тем, что он говорил. Меня так озадачил вид Микеле, что я даже задумалась, не влюблен ли он в Клару. Ожидая ее звонка, он то и дело спрашивает, который час, совсем как Риккардо, когда ждет звонка Марины. Я думала о скабрезном сценарии, который он написал, я и думать о нем забыла, отвлекшись на все свои привычные дела и на Миреллу. Но тут же успокоилась, подумав, что писать или говорить о подобных вещах характерно для тех, кто уже не молод. Я представила себе Микеле рядом с Кларой: трудно было вообразить его в роли влюбленного, мне так и хотелось улыбнуться собственным подозрениям. Я так удручена в эти дни, что всюду вижу тени. «Хорошо, я сама схожу к Кларе», – пообещала я. А он встревоженно спросил меня: «Когда? Почему бы тебе не сходить сегодня вечером?» Я позвонила Кларе, но она ответила, что все время занята по вечерам: я пойду к ней на обед в следующую среду. Микеле хотел знать, что о нем сказала Клара, но она ни слова не сказала, даже не попросила передать привет. Настойчивость Микеле окончательно меня успокоила: если бы между ними что-то было, он ни за что не попросил бы свою жену сходить к ней. Я утешала его: ничего страшного, если сценарий не получится продать; есть кое-какие платежи, которые нам как-то нужно умудриться внести, но когда мы закончим с ними, заживем спокойно, сказала я ему, хотя сама так не думаю. Я уже знаю по опыту, что как только одна проблема отпадает, тут же появляется какая-то другая. Но я знаю и то, что в конечном счете все равно как-то выкручиваешься. Микеле казался мне таким подавленным, что я не отважилась заговорить с ним о Мирелле. Чтобы взбодрить его, я весело напомнила, что теперь подходит наша очередь отдыхать, выйти на пенсию, Риккардо отправит нам много денег из Аргентины. Но Микеле это задело, он сказал, что ему и пятидесяти нет, так что момент, когда ему придется выйти на пенсию, еще далек. Он по-настоящему обиделся, не понял, что я шутила: когда я подошла, чтобы игриво обнять его, оттолкнул меня резким движением. Часто, сталкиваясь с плохим настроением у мужчин, я задаюсь вопросом, что бы они делали, если бы помимо одной только работы у них, как у всякой женщины, была бы масса разнообразных проблем, требующих внимания и решения.
16 апреля
Сегодня утром, около одиннадцати, швейцар вошел ко мне в кабинет и принес визитную карточку, на которой я прочла: адвокат Алессандро Кантони. Я подскочила, и мое сердце заколотилось в груди, я не знала, стоит ли мне принимать его вот так, не подготовившись. Швейцар ждал. Я сказала ему: «Пропустите», и тут же окликнула: «Пропустите через несколько минут». Хотела навести порядок в мыслях, но голова моя была пуста. Я встала, походила немного взад-вперед, не находя себе места, поспешно вернулась за стол, достала из ящика гребешок и пудреницу, посмотрела на себя в зеркало, привела в порядок. Едва закрыв ящик, я услышала голос швейцара, произносивший: «Милости прошу», и Кантони вошел.
Это высокий мужчина, довольно красивый, элегантный, с решительным выражением лица: я сразу же подметила, что глаза у него голубые и нежные. Он поприветствовал меня любезным поклоном. Ледяным жестом я пригласила его сесть, и неожиданная сила подтолкнула меня завладеть инициативой. «Вы правильно пришли, – сказала я. – Я решила сама вам позвонить, чтобы встретиться, сегодня или завтра. Полагаю, Мирелла говорила вам о нашей беседе, иначе я не поняла бы мотива вашего визита». Он кивнул, а я продолжала: «Мирелла еще ребенок. Уверена, что вы, поразмыслив, пришли объявить мне, что решили отступиться и впредь не причинять ей беспокойства. Не так ли?» – спросила я решительным тоном, не допускавшим ничего, кроме утвердительного ответа. «Нет, – спокойно и столь же решительно ответил он, – напротив. Я пришел сказать вам, что никогда ее не оставлю».
Я предвидела, что этот разговор не будет простым, но не предполагала, что натолкнусь на столь безмятежную и учтивую твердость. Я представляла его себе другим; циничным, возможно, высокомерным. Я спрашивала себя, кто же он на самом деле, а главное, какие узы связывают его с моей дочерью. Это неизвестное снова придало мне агрессивности: «Вам следует отступиться, чтобы Мирелла вновь обрела свой покой. Мирелла молода; достаточно, чтобы вы к ней не приближались месяц или, скажем, два», – добавила я, чтобы сделать ему больно. Он качал головой, глядя на меня с доверчивой улыбкой, которая раздражала меня: «Нет, синьора, я долго думал, долго размышлял, я не так молод, как Мирелла, мне почти тридцать пять лет. И я уверился в том, что мой долг состоит именно в том, чтобы остаться». «Почему?» – подозрительно спросила я, слыша, как он говорит о долге. «Потому что я люблю Миреллу, Мирелла любит меня, мы хотим трудиться вместе, у нас общий план действий, думаю, что вместе мы сможем быть не только счастливы, но и полезны. Не стоит так улыбаться, – добавил он, отчего у меня на лице застыло недоуменное выражение. – Знаю, когда мы говорим о таких вещах, о чувствах, об устремлениях, мы вынуждены пользоваться словами, которые, едва сказаны, кажутся нам нелепыми, напыщенными, смехотворными. Но это правда. Прежде я немногого стоил: Мирелла была умной, красивой девушкой, не больше того. Мы как будто внезапно выросли, встретившись. Теперь, вместе, мы – сила. И наш долг не растратить ее попусту. Говоря, что мы хотим трудиться вместе, я имею в виду не только нашу профессию: сама по себе она была бы слабым оправданием, хотя я счастлив видеть, что Мирелла любит свою работу и не видит в ней одну лишь необходимость, как многие другие женщины. Я сам до встречи с Миреллой вел совершенно другую жизнь. Но все время чувствовал, что вокруг меня было что-то подавляющее, особенно после окончания войны. Не знаю, как объяснить; было так, словно моя жизнь, все то, что я делал, было шатко, непрочно. Сложно говорить о таких вещах, они неуловимы, не имеют точного определения… Я вам наскучил?» Я сделала отрицательный жест. Наблюдала за ним, ждала, что пойму, к чему он ведет; внимательно следя за его словами, я сохраняла недоверие к нему. «Мирелла могла бы объяснить вам все это лучше, чем я, – продолжал он, – она чувствует слова лучше меня, потому что моложе. Много всего, множество новых обстоятельств разверзли пропасть между нашими с Миреллой поколениями. Мне удается заполнить ее посредством любви. Возможно, вам сложно понять Миреллу, поскольку…» Он колебался, и я подсказала: «Поскольку я старше ее на двадцать лет, вы хотите сказать?» «Нет, потому что мать не способна признать, что многое из того, во что она верила, больше ничего не значит для ее дочери. А другое, новое…» Я прервала его, сказав, что так было всегда: молодежь всегда считала, что способна нести в мир обновление. Но он не соглашался, сказав, что те события, свидетелями коих мы стали, больше не позволят нам жить как прежде. «Тот, кто это осознает, жив, – сказал он, – а тот, кто не понимает, – все равно что уже мертв».