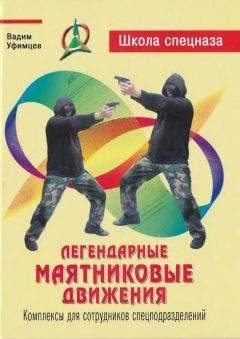Вторжение - Гритт Марго
Когда львица ложится на землю и лев подходит сзади, мама говорит: «Это неинтересно» – и нажимает на кнопку Fast Forward. По экрану пробегают рваные полосы, лев в ускоренной съемке забирается на львицу, его хвост забавно подрагивает. Львица неподвижна, но когда самец сжимает зубы на ее холке, она открывает пасть в немом рыке и переворачивается на спину, сбрасывая с себя тушу. Мама жмет на Play. Я не задаю вопросов. Мы лежим на узком одноместном диване, я упираюсь макушкой в мамину подмышку. Сбрасываю ногами колючее шерстяное одеяло, которое она натягивает на нас, потому что всегда мерзнет. Мы пересматриваем фильм уже третий или четвертый раз – выбор невелик: океаны, обезьяны или львы, – и всегда происходит одно и то же – мама пропускает сцену, а я демонстративно зеваю, будто мне правда неинтересно. Мне десять, и мне, разумеется, интересно, но я боюсь, что мама не захочет больше смотреть со мной фильмы. Мама не догадывается, что, когда она уходит на работу и оставляет меня одну, я перематываю кассету на девятнадцатую минуту и смотрю, как лев наваливается на львицу, и пытаюсь понять зачем. Дикторский голос поверх английской дорожки что-то невнятно говорит про брачные игры, и я делаю вывод, что лев сверху, а значит, победил в игре. Я всегда заметаю следы – перематываю пленку в конец, на то место, где мы в последний раз остановили запись.
vareshka: привет
artem90: ого
vareshka: что в кино идет?
artem90::)))
artem90: трансформеры
artem90: норм?
vareshka: без разницы
В кинотеатре я всегда садилась на первые ряды – очки на минус три при зрении минус шесть. Но Артем поднялся выше и развалился в кресле на самом последнем ряду. Ну, конечно. Места для поцелуев.
– Кто же your type?
– Брюнеты.
Попкорн вонял прогорклым маслом, я подумала, что, если съем сейчас хоть одно зернышко, меня стошнит. Надо было купить воды, во рту пересохло и хотелось пить, но пока я гадала, успею ли спуститься в буфет, огоньки, подсвечивающие ступени, начали медленно гаснуть. Кондиционер в зале работал на полную мощность, и в первые минуты после уличной жары было даже приятно, но уже скоро я остыла и замерзла. Положила ладони под бедра, чтобы согреться и чтобы не класть руки на подлокотники. Мне не хотелось, чтобы мы случайно соприкоснулись.
Шли бесконечные трейлеры. Какая-то парочка впереди нас присосалась друг к другу и не отлипала уже минут пять. На соседнем кресле мужик открутил крышку бутылки, кола внутри зашипела, вспенилась и хлынула на его шорты и мои кеды. Мужик громко выругался, но даже не извинился. Подошвы теперь липли к полу. Фильм никак не начинался, а Артем уже почти доел попкорн и шумно встряхивал ведерком, проверяя, осталось ли еще что-то на дне. К его невидимой щетине прицепились крошки, но мне не хотелось ничего говорить, тем более не хотелось дотрагиваться до него. Сидеть рядом тоже не хотелось. Я не понимала, зачем вообще ему написала. Ладно, понимала.
– Кто же your type?
– Джонни Депп. Например.
Я никак не могла вникнуть в происходящее на экране. Военные, взрывы, тачки, Меган Фокс, десептиконы, автоботы. Пожалуй, на Меган Фокс я включалась в действие, но Артем наклонялся ко мне и шептал в ухо что-то про операторскую работу и спецэффекты или про то, что Меган Фокс – горячая штучка, и я снова теряла нить повествования. Артем смотрел кино чуть ли не с открытым ртом. Украдкой я поглядывала на него, на всполохи света на его лице, белые ресницы и крошки от попкорна на подбородке. Неизменную кепку Артем повесил на колено, и она пару раз свалилась на пол, когда он подпрыгнул на кресле от восторга.
Мне хотелось в туалет.
– Сколько идет фильм? – спросила я шепотом.
– Часа два, – пожал плечами Артем.
Если быть точнее, два часа и двадцать четыре минуты. Из всех фильмов в кинотеатре мы выбрали тот, что идет два гребаных часа и двадцать четыре гребаные минуты. Ладони онемели, я осторожно вытащила их из-под себя и положила руку на подлокотник. На экране какой-то мужик, видимо, отец, колотил в дверь комнаты героя и кричал:
– Почему ты закрылся? Ты же знаешь правила, двери должны быть открыты!
По-моему, сценарий писала мама. Дверь должна быть открыта, Варя. Родители вламывались в комнату сына с фонариком и бейсбольной битой – не знаю почему, я все прослушала, – но потом киношная мать вдруг заверещала:
– Ты что, мастурбировал?
В зале раздались смешки. Артем хохотнул в голос, не стесняясь, и посмотрел на меня. Я скривила рот, изображая улыбку, для убедительности закатила глаза. Артем положил ладонь на мою руку.
Лев взбирается на самку. Ладонь была мягкая и влажная, будто рыбья тушка, липкая от сладкого попкорна. Обкусанные до мяса ногти. Тошнота подступила к горлу, я сглотнула, заерзала в кресле.
Мне должно нравиться? Почему мне не нравится? Итак, я умру в одиночестве. Как баба Шура. И меня найдут через месяц после смерти. В прошлом году соседку над нами нашли мертвой в ее собственной квартире спустя три недели после того, как она упала и ударилась головой о край стола. Жильцы почувствовали запашок. Бабу Шуру называли кошатницей, хоть у нее никогда не водилось кошек. Каждое утро она высовывалась из окна и звала:
– Рыжик! Рыжик! Кис-кис-кис!
А потом начинала вопить на весь двор:
– Не трогай кота! Оставь кота, паразит!
Баба Шура отгоняла невидимого живодера от невидимого кота, а я над ней посмеивалась. Приходилось закрывать форточку, чтобы заглушить ее крики, которые могли продолжаться полчаса. Поздней осенью кто-то из соседей заметил, что «Рыжик! Рыжик!» больше не слышно, но решили, что ей просто стало холодно высовывать нос наружу, а потом в подъезде появился запах. Мы редко в обычной жизни сталкиваемся с подобными запахами, но, как только чувствуем его, сразу понимаем, что произошло. Говорили, окно в комнату было распахнуто, и бабу Шуру заносило первым снегом. Как только затопили батареи, она подтаяла и начала пахнуть.
А ведь когда-то баба Шура была конопатой Санькой с двумя косичками, ходила в кино с мальчишкой, но, когда он положил свою теплую ладонь на ее руку, она испугалась и убежала. Так она и умерла в одиночестве.
Аккуратно, миллиметр за миллиметром, моя рука сползала вниз, высвобождаясь. Мне показалось невежливым выдернуть ее резко, одним движением. Оскалиться, как львица. У Артема зачесался нос, и я быстро спрятала ладони между коленей. Боль внизу живота была похожа на тяжелую, разбухшую от воды тряпку. Я сидела, пытаясь не шевелиться. Попросить мужчину в мокрых от колы шортах меня пропустить, поднять целый ряд, извиниться шепотом по меньшей мере пятнадцать раз, не отдавить случайно чью-то ногу, подсветить фонариком ступеньки – еще ладно, но я стеснялась сказать Артему, что мне нужно в туалет. Мне просто хотелось, чтобы кто-то нажал на кнопку Fast Forward и перемотал на конец фильма, а еще лучше – сразу на конец сегодняшнего дня. Зал смеялся, Артем еще что-то говорил, но я смотрела в одну точку на экране и думала: быстрее, быстрее, быстрее. Погони, взрывы, разрушения, битвы, снова взрывы. Бессмыслица. Еще пять минут, и все закончится.
А потом я услышала знакомую музыку. Меган Фокс целовала парня, лежа на капоте желтой машины, гигантский робот толкал пафосную речь на фоне закатного неба, но через его слова, через всю эту двухчасовую муть какого-то черта прорывались удары по клавишам пианино, которые я узнала бы и с одной ноты.
– Я – Оптимус Прайм, и я обращаюсь ко всем выжившим автоботам, укрывшимся среди звезд. Мы здесь. Мы ждем.
Пауза. Затемнение. И знакомый голос взрывается в хриплом крике: «What I've Done».
Титры.
Артем поворачивается ко мне:
– Ку-у-ул, правда?
В зале еще темно, но в тусклом отблеске от экрана, на котором вспыхивают титры, он видит, что у меня слезятся глаза, наверняка думает, от восторга, наклоняется ко мне, обдает запахом прогорклого масла и, как в замедленной съемке, тянется поцеловать. Я вскакиваю, опрокидываю пустое ведерко из-под попкорна между нашими креслами, пробираюсь к проходу, наступая кому-то на ноги, толкаясь, не извиняясь, по ступенькам вниз, к спасительному красному сиянию таблички «Выход», наваливаюсь всем весом на тяжелую дверь, бегу по коридору. Чьи-то сильные руки будто скручивают мокрую тряпку внизу живота. Закрываюсь в кабинке туалета. Отираю слезы, выступившие на глаза. В голове Честер поет «What I've Done», и вместе с его голосом я слышу ее голос, ее чертов голос, срывающийся на крик, она тоже поет в моей голове. Что со мной не так. Что со мной не так. Что со мной не так.