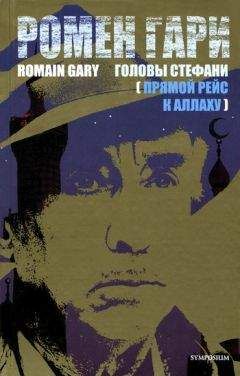Стефани Цвейг - Нигде в Африке
— Кажется, «Мартин» она сказала раньше, чем «папа», — припомнил он.
— Я всегда завидовал твоей плохой памяти. А сейчас такая память на вес золота. Жаль, что ты не увидишь, как выросла Регина. Она бы тебе понравилась.
— Это почему же, интересно, не увижу? Я ради этого и приехал.
— Да ведь она сейчас в школе.
— Ну, это ерунда. Что-нибудь придумаем.
Отец Мартина, торговавший скотом в маленькой деревушке возле Найссе, был верным кайзеру патриотом. Он настоял на том, чтобы все его пятеро сыновей, прежде чем начать учебу в университете, ради которой он отказывал себе во всем, выучились ремеслу — «точно как сыновья Вильгельма Второго», как он любил говорить. Мартин, прежде чем сдать первый государственный экзамен на юриста, стал подмастерьем слесаря.
Самый младший в семье, он рано научился настаивать на своем и гордился своей несгибаемой волей. Даже среди хороших друзей он слыл отъявленным спорщиком. Его склонность высмеивать банальности и ни с чем не мириться всегда импонировала Вальтеру и Йеттель, а теперь, в Ол’ Джоро Ороке, стала для всех троих источником самых веселых воспоминаний.
— Ты себе представить не можешь, как часто мы тебя вспоминали.
— Могу, — сказал Мартин. — Как посмотришь на это все, становится понятно, что вы здесь только о прошлом и говорите.
— Мы боялись, что тебе не удалось выбраться из Праги.
— Я смылся оттуда до заварушки. Работал тогда у одного книготорговца, и мы с ним не поладили.
— А потом?
— Сначала отправился в Лондон. Когда началась война, меня арестовали. Большинство отправили на остров Мэн, но можно было попроситься в Южную Африку. Если владел ремеслом. Мой батюшка был прав. С ремеслом в руках голодным не останешься. Господи, как же давно я не слышал этой фразы.
— А почему ты пошел в армию?
Мартин потер лоб. Он всегда так делал, когда смущался. Побарабанив пальцами по столу, он несколько раз оглянулся, будто хотел что-то спрятать.
— Просто я хотел что-то делать, — сказал он. — Все началось, когда я случайно узнал, что моего отца незадолго до смерти упекли в тюрьму: обвинили в сношениях с одной из наших служанок. Тогда я впервые почувствовал, что вовсе не железный, а ведь я так ценил это в себе. У меня появилось такое чувство, что отец хотел бы видеть меня в строю. Pro patria mori[40], если ты еще помнишь, как это переводится. Старая-то родина никогда не требовала от меня такой жертвы. В Первую мировую я был еще мал, и в этой бы не участвовал, если бы дорогое отечество не дало мне вовремя пинка под зад. Новое, слава богу, другого мнения о евреях.
— Этого я как-то не заметил, — сказал Вальтер.
Во всяком случае, — поправился он, — здесь, в Кении. Здесь они берут только австрийцев. Этих они записали в «дружественные». А куда тебя отправят?
— Не знаю. Во всяком случае, я вдруг получил три недели отпуска. Говорят, это перед фронтом. Мне все равно.
— И как же эти военные выговаривают твое имя?
— Я у них просто Баррет. Больше не Бачински. Мне здорово повезло с натурализацией. Вообще-то это длится годы. Конечно, пришлось постараться. Приударил за одной девицей, и она мое заявление вытащила из кучи других и положила на самый верх.
— Я бы так никогда не смог!
— Что именно?
— Отказаться от своей фамилии. И родины.
— И начать роман с чужой дамой. Эх, Вальтер, ты из нас двоих всегда был лучше, а я — умнее.
— А как ты нас вообще нашел? — спросила Йеттельза ужином.
— Я еще в тридцать восьмом узнал, что вы поселились в Кении. Лизель написала мне об этом в Лондон, — сказал Мартин, снова потерев пальцами лоб. — Наверно, я мог бы ей помочь. Англичане еще принимали тогда незамужних женщин. Но Лизель не хотела бросать отца одного. Вы что-нибудь слышали о них?
— Нет, — сказали вместе Вальтер и Йеттель.
— Простите. Но спросить надо было.
— От моей матери и Кэте пришло письмо. Они написали, что их отправляют на Восток.
— Мне очень жаль. Господи, что за ерунду я говорю!
Мартин закрыл глаза, чтобы отогнать навязчивые картины, и все-таки увидел шестнадцатилетнюю Йеттель, в ее первом бальном платье. В его голове танцевали квадраты из тафты, желтые, фиолетовые, зеленые, как мох в маленьком городском парке. А он боролся с гневом, беспомощностью, яростно душа тоску.
— Ладно, — сказал он, нежно целуя Йеттель, — теперь ты мне рассказывай про мою лучшую подругу. Могу поспорить, что Регина стала первой ученицей. А завтра покатаемся на джипе.
— «Враждебные иностранцы» должны получить разрешение на то, чтобы покинуть ферму.
— Не надо никакого разрешения, если за рулем — сержант его королевского величества, — засмеялся Мартин.
Первая поездка с Мартином, Вальтером и Йеттель на передних сиденьях, Овуором и Руммлером на заднем была недалекой — до дуки Пателя.
Благодаря неизменному таланту Мартина превращать небольшое столкновение в большую войну это путешествие стало прекрасной местью за все те маленькие стрелы, которые Патель выпустил за четыре года из своего всегда заряженного лука в людей, которые не могли защититься.
Война и связанные с ней трудности — теперь Пателю приходилось каждый год вызывать в Кению еще одного сына и взамен него посылать одного обратно в Индию — заставили его относиться к людям еще хуже, чем раньше. Беженцы с ферм, которые все лучше говорили на суахили, чем по-английски, и, значит, плохо могли разговаривать с ним, были для Пателя желанным вентилем, через который он выпускал свое недовольство.
Он так мало продавал им товаров, что образовал свой собственный черный рынок. Вальтер и служащие с фермы в Ол’ Калоу должны были платить двойную цену за муку, мясные консервы, рис, пудинг в порошке, изюм, пряности, материю на платья, галантерею и, прежде всего, за парафин. Хотя такое взвинчивание цен официально было запрещено, в случае с беженцами Патель мог рассчитывать на терпимость властей. На их взгляд, такие мелкие подлости были безобидны и вполне соответствовали патриотическим чувствам и ксенофобии, усиливавшейся с каждым годом войны.
Мартин узнал об этих лишениях и унижениях только по дороге к Пателю. Он остановился перед последним, густым кустом шелковицы, послал Вальтера с Йеттель одних в лавку, а сам с Овуором остался в машине. Позднее Патель не мог простить себе, что не сориентировался в ситуации и не догадался сразу, что эти оборванцы с фермы Гибсона могли прийти в его лавку только в чьем-либо сопровождении.
Прежде чем взглянуть на Вальтера с Йеттель, Патель дочитал письмо. Он не спросил, чего они желают, а молча выложил перед ними муку со следами мышиного помета, помятые мясные консервы и намокший рис. Заметив, как ему показалось, обычную нерешительность покупателей, он привычно махнул рукой.