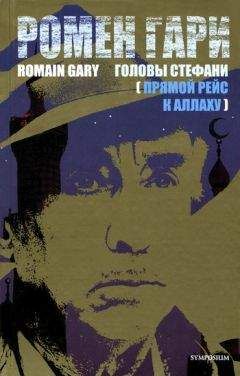Стефани Цвейг - Нигде в Африке
Прежде чем взглянуть на Вальтера с Йеттель, Патель дочитал письмо. Он не спросил, чего они желают, а молча выложил перед ними муку со следами мышиного помета, помятые мясные консервы и намокший рис. Заметив, как ему показалось, обычную нерешительность покупателей, он привычно махнул рукой.
— Take it or leave it[41], — сказал он с издевкой.
— You bloody fuckin’ Indian, — закричал от дверей Мартин, — you damn’d son of a bitch[42].
Он сделал несколько шагов от двери и одним движением сбросил со стола банки и мешок с рисом. А потом вспомнил все ругательства, которые выучил за то время, пока был в Англии, и особенно в армии. Вальтер и Йеттель поняли из сказанного так же мало, как и Овуор, стоявший у двери в лавку, но выражение лица Пателя видели все. Из ворчливого диктатора с садистскими наклонностями он превратился в скулящую собаку, о чем в тот же вечер снова и снова рассказывал в хижинах Овуор.
Патель слишком мало знал о британской армии, чтобы правильно оценить ситуацию. Он посчитал Мартина, с его тремя сержантскими нашивками, за офицера и был достаточно умен, чтобы не начинать скандала. Он ни в коем случае не хотел из-за пары фунтов риса или нескольких банок консервов портить отношения с объединенными союзными войсками. Не дожидаясь приглашения, он принес из подсобки, отделенной от торгового зала занавеской, безупречные продукты, три больших ведра парафина и два рулона ткани, только вчера привезенных из Найроби. Неуверенным движением он положил сверху еще четыре кожаных ремня.
— Это отнести в машину, — приказал Мартин тем же тоном, каким командовал в шестилетнем возрасте польскими служанками и за это получил от отца пощечину. Патель был так напуган, что собственноручно выполнил его приказ. Овуор вышагивал впереди, держа в руках палку, как будто Патель, поганый сукин сын, был женщиной.
— Материал для Йеттель, а ремни все тебе. Я свои получу от короля Георга.
— Да куда мне четыре ремня? У меня только три пары брюк, и одна пара уже изношена.
— Тогда один достанется Овуору, чтобы он всегда помнил обо мне.
Овуор заулыбался, услышав свое имя, и онемел от силы волшебства, когда бвана аскари протянул ему ремень. Он отдал честь, как делали молодые парни, которым тоже можно было стать аскари, когда они на несколько дней возвращались к своим братьям в Ол’ Джоро Орок.
Так закончился первый день из семнадцати (умножить на двадцать четыре часа) дней счастья и полноты жизни. На следующее утро они поехали в Наивашу.
— Наиваша, — засомневался Вальтер, — только для приличных людей. Они, правда, не расставили везде таблички «Евреям вход воспрещен», но с удовольствием сделали бы это. Зюскинд мне рассказывал. Он поехал однажды туда со своим шефом, и ему пришлось остаться в машине, пока тот обедал в отеле.
— Посмотрим, — ответил Мартин.
В Наиваше было всего несколько маленьких, но хорошо построенных домов. Здешнее озеро, с растениями и птицами, было достопримечательностью колонии, его берег был усеян отелями, выглядевшими как английские клубы. Отель «Лейк Наиваша» был старейшим и самым дорогим. Там они и обедали, на заросшей бугенвиллеями террасе, поедая ростбиф и попивая первое пиво с того времени, как покинули Бреслау. Йеттель и Вальтер отваживались только перешептываться. Они стеснялись, что говорят по-немецки, и прятались за униформу Мартина, как дети, которые чувствуют себя за материнским фартуком защищенными от любой опасности.
Потом они плыли на лодке по озеру, между водяных лилий, в сопровождении голубых скворцов. Администраторы отеля сначала не хотели предоставить отдельную лодку для Овуора с Руммлером, но, впечатлившись угрожающим тоном Мартина, сдались. Портье-индус подчеркивал и до, и после прогулки, что у него есть особое предписание идти навстречу всем пожеланиям военнослужащих.
Когда они неделю спустя отправились в Наро Мору, откуда открывался красивейший вид на гору Кения, туда, по настоянию Вальтера, взяли не только Овуора, но и Кимани.
— Знаешь, мы с ним каждый день глазеем на эту гору. Кимани — мой лучший друг. Овуор-то у нас член семьи. Вот спроси Кимани про Эль-Аламейн.
— Ну ты и фрукт, — засмеялся Мартин, втискивая Кимани между Руммлером и Овуором. — Твой отец всегда ругался, что ты ему испортил персонал.
— Кимани нельзя испортить. Он не дает мне сойти с ума, когда страх пожирает мою душу.
— Чего ты боишься?
— Что я лишусь сначала места, а потом и рассудка.
— Да, борцом ты никогда не был. Меня удивляет, что Йеттель досталась тебе.
— Я был третьим вариантом. Когда Зильберманн ей не достался, она хотела тебя.
— Не болтай.
— Врать ты никогда не умел.
Отель в Наро Мору видал лучшие дни. Перед войной отсюда начинали свои восхождения альпинисты. Но с началом мобилизации гостей здесь не обслуживали. Однако Мартин мог быть как очаровательным, так и упрямым. Он позаботился, чтобы вызвали повара и накрыли обед в саду. Овуора и Кимани разместили в комнатах для персонала, но сразу после обеда они вернулись, чтобы посмотреть на гору. Йеттель спала в шезлонге, а Руммлер посапывал у ее ног.
— Йеттель выглядит как раньше, — сказал Мартин. — И ты тоже, — торопливо прибавил он.
— Ну, я уж не такой бедняк, зеркало у меня есть. Знаешь, я так и не смог сделать Йеттель счастливой.
— Йеттель вообще нельзя сделать счастливой. Ты не знал?
— Знал. Правда, вовремя не догадался. Но я ни в чем ее не упрекаю. Она не очень осторожно выбрала себе мужа. У нас были тяжелые времена. Мы потеряли ребенка.
— Вы потеряли себя, — сказал Мартин.
Овуор сделал уши достаточно широкими для ветра, который посылала гора. Еще никогда он не слышал, чтобы бвана аскари говорил голосом, который был как вода, прыгавшая по маленьким камушкам. Кимани видел лишь глаза своего бваны и кашлял солью.
— Сейчас мне не хватает только Регины, — объявил Мартин вечером, после возвращения из Наро Мору. — Не поеду на войну, не увидев ее. Я так радовался нашей встрече.
— У нее каникулы только через неделю.
— Мне как раз уезжать через неделю. А как вы ее забираете из школы?
— Эта проблема встает каждые три месяца. Все это время мы места себе не находим. Если мы хорошо ведем себя, ее привозит бур с соседней фермы.
— Бур, — повторил Мартин с отвращением. — Вот до чего дошло! Такое нельзя говорить в лицо южноафриканцу! Я ее заберу. Один. Лучше всего — в четверг. Завтра мы пошлем ей телеграмму.
— Скорее мы поедем в Бреслау и выбьем нацистам в ратуше все окна. Школа не отдает детей ни на один день раньше. Они даже не разрешили Регине навестить Йеттель в больнице, хотя ее врач специально позвонила в школу. Там тюрьма. Регина об этом не говорит, но мы давно это знаем.