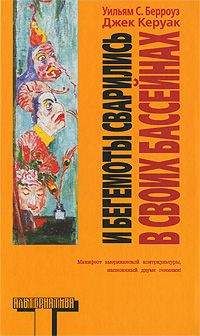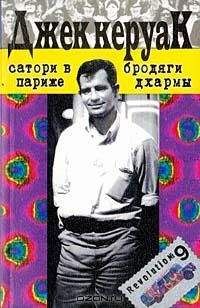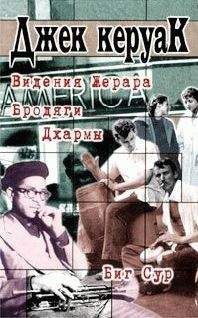Николай Студеникин - Перед уходом
Потоптавшись на месте и повздыхав, старуха выбирала другого хорошо одетого, солидного и строгого человека и плелась теперь за ним. Вопросов она никому не задавала — боялась, что не сумеет правильно выговорить неудобное слово «юстиция» и ее не поймут, а может, и обругают. Много времени прошло, прежде чем старуха поняла, что заблудилась. Она отстала от очередного солидного и тихо заплакала, не утирая слез.
Потом она долго шла одна, сама по себе, и вдруг уперлась в белую стену. Подняв голову, она увидела, что стоит у красивой, как старинная рождественская открытка, ухоженной церкви — одной из знамениты московских сорока сороков, о которых рассказывали бывалые люди в старину. «Образъ кротости…» — с трудом, напрягая глаза, разобрала она одну из строк затейливой славянской вязи и — умилилась. В глазах появилась резь. Перед ними, дрожа, поплыли желтые круги.
— Бабушка, а вам не надо помочь? — услышала она вдруг.
Перед ней, переминаясь с ноги на ногу, стоял рослый мальчик в коротких, выше исцарапанных колен, штанах. Лицо у него было курносое, в веснушках. Он выпячивал вперед свой остренький подбородок.
— Вам помощь не требуется? — повторил он и залился краской, видя, что старуха молчит. — Ну, через улицу перевести, где движение, или еще что?
Старуха с недоверием посмотрела на царапины на его голых коленях, но все-таки выдавила из себя свою «Устинью». Мальчик задумался, морща лоб.
— Нет, не знаю, — признался он наконец. — Но по-моему, это там где-то, в ту сторону… Далеко! — и неопределенно махнул рукой.
— А церьква? — тая надежду, спросила старуха.
Мальчик нахмурился.
— Церковь? — переспросил он. — Эта, что ли? Но она же не работает, закрыта! «Памятник архитектуры… Охраняется государством», — задрав голову, прочел он.
Старуха в знак того, что понимает, потрясла головой. От мечты спросить совет у местных богомолок — а их, по расчетам старухи, при такой церкви должно было собираться много: в хоре поют, полы моют, за цветами ухаживают, которые во дворе, — остались руины и пепел. Старуха расстроилась.
— Извините, — вдруг буркнул мальчик и поспешил прочь, снова залившись яркой краской.
Старуха не посмела ни остановить его, ни окликнуть. Да и откуда ей было знать, что именно с сегодняшнего дня, с полудня, мальчик решил начать новую, правильную жизнь; ведь шел-то как раз понедельник — самое удобное для таких начинаний время? Не знала она и того, что римский император Тит говаривал про день, в который ему не удавалось свершить хотя бы одно доброе дело: «Вот день, прожитый даром». Мальчик случайно прочел об этом в одной толстой книге, и ему очень понравился обычай Тита.
О нет, мальчик вовсе не собирался в императоры. Просто он жаждал стать настоящим человеком и даже составил план, как этого добиться. И в эти его ревниво охраняемые, тайные планы совсем не входила помощь всяким там мракобесам и кликушам, распространяющим опиум для народа. Объяснять же старухе, что религия — это обман, мальчик не стал, справедливо опасаясь, что его пропаганда успеха иметь не будет. Разве он — авторитет? А старые люди так упрямы…
И, не зная, как поступить, он предпочел смыться, уйти. Воротиться домой ему было велено не позже девяти, а вечер еще даже и не начался, и времени для свершения добрых дел у мальчика было хоть отбавляй.
Старуха долго плутала. Кривые улицы, тесно заставленные высоченными домами, не выпускали ее из плена. Набравшись храбрости, она время от времени останавливала прохожих, теперь выбирая тех, кто одет попроще, и спрашивала, как дойти до нужного ей министерства. Ей объясняли — коротко или многословно, с желанием помочь или без охоты, но, отойдя немного, она все забывала. Возобновлялась путаница. Гудела голова, гудели ноги, а тротуарам впереди не было конца.
Потом из дверей с вывесками, за которыми располагались загадочные и разнообразные учреждения, валом повалил народ. Старуха вспомнила, что в городах, как и на железной дороге, люди работают по часам, и поняла, что это окончился рабочий день, что она опоздала. Еще она вспомнила доброго, празднично одетого водителя троллейбуса и его совет позаботиться о ночлеге. У нее не было здесь, в Москве, ни родственников, ни земляков, которые бы ее приняли, но она невольно ускорила шаг. Ей захотелось найти такое место, где можно присесть и собраться с мыслями. Она обрадовалась, когда увидела отороченный низенькой чугунной оградой садик, а в нем — длинные деревянные скамьи, сулящие отдохновение и покой.
Выбрав пустую, старуха села. Ныли скованные новыми ботинками ноги. Посидев немного с закрытыми глазами, старуха тихонечко громыхнула крышкой своего сундучка и, запустив в него руку, отломила от батона, купленного еще в поезде, у разносчицы в куцей белой куртке, добрую половину. Хлеб был мягок и бел. А вкусен! Зажав кусок в кулаке, старуха украдкой откусывала от него и жевала.
Перед скамейками, за второй оградой, в низинке, лежал большой квадратный пруд, похожий на зеркало. В нем, изредка подрагивая, отражался высоченный дом, стоявший на противоположном берегу. Старуху удивило то, что в пруду никто не стирал, хотя даже издали было видно, какая в нем чистая вода, и никто не купался, хотя погода стояла жаркая и душная, а вокруг пруда бегали и ездили на велосипедах многочисленные дети. «Гусей бы сюда, — подумала она. — Дворов десять гусей держать могут, а то и все село…»
А детей вокруг было действительно много. Одни, сидя на корточках и пыхтя, рылись в нечистом сером песочке, другие раскачивались, самозабвенно откидывая назад головы, на качелях, а третьи с веселым или обиженным видом носились друг за другом. Самые маленькие, под бдительной опекой бабушек и матерей, топали на нетвердых еще ножках и бессмысленно улыбались.
Одно такое дитя, доверчиво показывая миру все четыре своих беленьких молочных зуба, двинулось вдруг прямиком к старухе, хватая воздух пухлыми растопыренными руками. Старуха не смогла сразу определить, девочка это или мальчик, и, пряча недоеденный хлеб, сжала его в кулаке. Корка лопнула, и мякиш полез меж коричневыми пальцами наружу.
Зачитавшаяся мамаша громко захлопнула книгу.
— Ой, Мариночка, деточка, ты куда? — в панике крикнула она и вскочила.
«Девочка», — подумала старуха и, виновато улыбаясь, потянулась навстречу молодой матери. У Мариночки-деточки были до жалости тонкие и кривые ножки. Старуха решила, если завяжется вдруг беседа, не только еще раз, поподробнее, расспросить, как пройти к прячущемуся министерству, но и посоветовать держать девочкины ножки в горячем песочке: «Насыпать на большую сковороду… ну, как котам домашним, чтобы на двор ходили, погреть на плите и…»
Беседа, однако, не завязалась.
— Маринка! — спугнув стайку голубей, раскормленных и ленивых, еще раз крикнула мамаша и подхватила любознательную дочку на руки. Потом она глянула на старуху, и глаза ее неожиданно сузились от гнева. — Голубей, бабушка, здесь кормить запрещено! — Голос ее дрогнул от возмущения. — Вы их приваживаете, а от этого, между прочим, инфекция!
Испуганная старуха, локтем больно ударившись о загудевший сундучок, спрятала за спину кулак с хлебом. Молодая мамаша, сердито вскинув голову, отчетливо сознавая свою правоту, оттащила свое чадо от очага инфекции — опасной старухи. Старуха беспомощно улыбнулась ей вслед.
Ей захотелось встать и немедленно уйти, чтобы не мешать тут людям, но уж больно настойчиво гудели ноги и голова, больно жестоко жали новые, всего лишь во второй раз надеванные ботинки. И старуха осталась сидеть на месте. Потихоньку она успокоилась и, угревшись на солнышке, задремала.
— Как же, как же, я хорошо знаю ваше место, ваш колхоз… — ласково сказал ей красивый седой генерал в кителе с золотыми погонами и орденами. — Правильно, что сразу к нам… Не волнуйтесь, я уже отдал строгий приказ, его там секретари печатают на машинке. Потом спокойно можете ехать домой. С билетом мы вам поможем, чтоб в очереди не стоять… Адъютант!
На его зычный зов в кабинет бесшумно проскользнул начальник рангом пониже, но тоже в форме и при орденах. Он, почтительно изогнувшись, протянул генералу бумагу. Генерал, обернувшись и громыхнув связкой ключей, извлек из сейфа большую печать, подышал на нее: «Хы-хы!» — и стукнул ею по бумаге.
— Мы поставлены, чтобы везде был порядок и никакой несправедливости, — сказал он, давя на печать и улыбаясь. — Сейчас я прочту вам свой строгий приказ…
— Неудобно, слушай, — громко прошептал кто-то. — И бабка спит — разомлела! Нехорошо. Некрасиво.
— Да чего там — некрасиво-то? — ответили ему еще громче. — Тоже мне, эстет! Чего зря ходить? Ноги не казенные! Место тут спокойное. Если по-тихому дело делать, лучше не найдешь. Слава богу, вырос тут — все закоулки известны! Садись. И время поджимает…