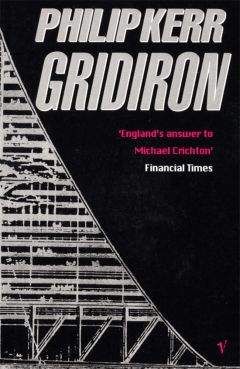Арман Лану - Свидание в Брюгге
— Все женщины тебя и утомляют и волнуют одновременно, — заметила Лидия.
— Молчать, дьявольское отродье! Эта милая женщина действительно сослужила мне службу, никакой дипломированный гид не смог бы так показать Брюгге: и монастырь бегинок, и каналы, и Старый город. Она занималась научными изысканиями и была связана с семьями Ланжевен и Кюри. Тут я насторожился. Вид у нее какой-то не такой. Короче. Подходим мы к магазину похоронных принадлежностей, — ты непременно должен его увидать, Робер, чисто американский стиль: «Ваше дело — умереть, а мы позаботимся об остальном». Ну я, как человек воспитанный, подбросил ей парочку вопросов насчет ее деятельности. Тогда она останавливается, чтобы показать мне «образчик своих трудов». И что же вы думаете? Вытаскивает из сумочки записную книжку, всю в свежих чернильных пятнах; ее закрывали, не дав высохнуть чернилам. Это все надо видеть, конечно. Брюгге, магазин похоронных принадлежностей с его витриной, с лакированными гробами — и моя старушенция рядом, дающая пояснения самым академическим тоном. «О мосье, несомненно одно. Взгляните, пожалуйста, — мой герб. О чем тут спорить. Честь, верность, преданность». Переворачивает страницу: «А здесь король приглашает меня продолжать. Королевская десница, вы понимаете. Порядок. Власть. О, это так понятно! Фландрский лев. Ватерлоо, мрачная равнина. А это — моя судьба, Академия у Высокого Трона. Вы понимаете теперь, почему я не могу доверяться незнакомым людям? О, это понятно! Я живу под угрозой. Меня выслеживают. Два раза в неделю я хожу в кино и через кино получаю указания. И узнаю новости. Вы понимаете?»
Фред в восхищении присвистнул. Остальные сидели не шелохнувшись, завороженные рассказом: Оливье разыграл его в лицах.
— Нет, вы бы только послушали, как она произносит: «О, это понятно!» Я расстался с моей милой гидшей перед Марктом, где мы с тобой сейчас были, Робер. На прощанье она дала мне свою визитную карточку. Я сохранил ее. Не могу сокрыть от вас этот документ, вполне достойный капитана Хаддока.
— Оливье вскармливал себя исключительно Тэнтэном, — пояснил Робер.
Действительно, Оливье отдал свое сердце капитану Хаддоку, главному действующему лицу детских альбомов под названием Тэнтэн, с рисунками Эрже; в Западной Европе они пользуются такой же популярностью, как и сказки Диснея; Оливье и Робер любили ссылаться на капитана Хаддока.
Оливье достал из бумажника визитную карточку и пустил ее по рукам.
«Женевьева Камий,
ученый исследователь высокой квалификации.
Открытия 1933 года и последующие:
Бред и паралич (под девизом ООН)
Драгоценные украшения в золоте и платине,
которыми награждаются первооткрыватели
(В Лондоне хранится единственный экземпляр)».
— Первооткрыватели… обратили внимание? — поинтересовался Оливье. — Да… Нарочно не придумаешь. Нет, это просто великолепно: первооткрыватели. Вот тут-то я и понял смысл фразы, произнесенной почтенной дамой в поезде, я тогда не придал этому значения: дескать, по другую сторону путей смотреть нечего, а здание с колоколенкой — я им заинтересовался — не представляет ни малейшего интереса, обыкновенный сумасшедший дом! — И он заорал без всякого перехода: Эй, мажордом, шизофреник несчастный! Пучеглазый савоец! Чтоб ты захлебнулся помоями! Мы подохнем тут от жажды!
— В общем, — сказал Робер, — маски ходят на свободе.
— Именно.
Робер взглянул на Жюльетту. Она как-то беспомощно озиралась вокруг, переводя взгляд с неубранного стола, заставленного пустыми бутылками, на пылающую физиономию Оливье, с него — на больные рисунки Дельво. С тех пор как она переступила порог этого дома, ею овладело беспокойство, и она уже не могла его побороть. А когда мимо нее проходил Бернар, она вздрагивала и каждые двадцать минут бежала в соседнюю комнату удостовериться, что ее Домино не похитили, а Домино, несмотря на весь этот гвалт, крепко спала.
— А знаешь, — уже совсем другим тоном сказал Оливье, повернувшись к Фреду, — мало того что ты поднимаешь подолы всем сестрам без разбору, чем, конечно, возмущаешь порядок (тут Оливье употребил крепкое словцо) в этом почтенном заведении, но ты еще вносишь смуту и в души моих гостей.
— Не может быть! Что же я такого натворил!
— А то, что тебя мало повесить на самом высоком суку в Марьякерке: ты писал в снег!
— Да? Возможно. Я люблю писать в снег.
— Подумаешь, — вмешалась Метж, — какое преступление. Я так и вижу Фреда в модели Писающий мужчина.
— Оливье, — сказала Жюльетта, — вы пьяны!
— Мы абсолютно трезвы, уважаемая дама, а Фред писал в снег, не постеснявшись присутствия мадам Жюльетты Друэн, которую вы здесь видите, и ее дочери — Доминики. И мадам Жюльетта Друэн приняла тебя за эксгибициониста!
— Вы смешны, — сказала Жюльетта.
Робер сидел как на иголках.
— Идиот, — прошипела она, больно ущипнув мужа за руку, найдя наконец выход своей ярости.
— Но, — проговорил вдруг Фред, — я писал вполне прилично, загородившись рукой.
— В этом-то и суть! — подхватила Метж, воодушевляясь. — Надо все выяснить.
— Так как же, Жюльетта? — не унимался Оливье. — «That is the qestion»[12]. Ответьте, пожалуйста. Необходимо восстановить картину преступления.
— Лично я к вашим услугам, — заявил Фред, направляясь в угол комнаты.
— Хватит, перестаньте! Этот тип способен на все!
Жюльетта резко поднялась и бросила салфетку на стол.
— Вы мне отвратительны. Все! Все мужчины отвратительны!
— Стало быть, — вопросил Оливье, — достаточно только чтобы мужчина писал на виду у публики, и вы уже зачисляете его в неисправимые развратники?
— Прекрасно! Значит, вы специально так делаете! Но послушайте, вы, сборище идиотов, посмотрела бы я, как бы вы рассуждали, если б вам довелось в семилетием возрасте встретиться в лесу с мужиком, который у вас на глазах спустил бы штаны. Со мной это случилось, да! В Булонском лесу! Я не смогу никогда это забыть! И я вас ненавижу, ненавижу!..
Жюльетта отчаянно замотала своей пышноволосой головой, и на ее лице выразилось такое ожесточение, какое бывает на японских масках гнева. Воспоминание невыносимо жгло ее, она уже не помнила себя от ярости, и сейчас любая шутка была бы неуместна, но ее гнев шокировал своей несоразмерностью с поводом, его вызвавшим, ибо общий тон, может, и был грубоватым, но отнюдь не разнузданным, как в былые времена в интернате.
— Прошу вас, Жюльетта, не надо, — взмолился Оливье. — Мы не хотели вас оскорбить.
Жюльетта стояла, полная решимости уйти, но теперь она растерялась. Опять, как и всегда, она не понимала чего-то главного, того, что было так естественно для других людей, — в таких случаях она чувствовала себя лишней и досадовала на себя.
— Да, конечно, раз так… — лепетал расстроенный Фред, заливаясь краской. — Конечно…
Робер подошел к Жюльетте и попытался усадить ее. Но она так сопротивлялась, — какая она, оказывается, сильная, удивился Робер, — что он не стал настаивать. Однако, когда ее коснулась маленькая ручка златокудрой Лидии, что-то шепнувшей ей на ухо, Жюльетта послушно повиновалась. Подперев голову руками и облокотившись на стол, она сидела так несколько минут, безучастная к возобновившемуся разговору.
Потом подняла голову. Японская маска исчезла. Жюльетта встала и направилась к комнате, где спала Домино, — и было похоже, что это ожил персонаж Дельво.
— Она меня очень беспокоит, — сказал Оливье Роберу. — Очень. — Он смачно икнул, но, не теряя достоинства, продолжал: — Я, конечно, знал, что она скорее пантера, чем ягненок, однако такого я не ожидал. Мне тебя жаль!
— Она раздражена, — сказала Метж.
— Еще бы! — воскликнула Лидия. — Вы, наверное, и не представляете себе, какое отвратительное зрелище являете собой.
Оливье отвесил поклон.
— Спасибо за откровенность, — сухо произнес Робер. — У нас тут, конечно, не чайный салон и не показ коллекции Бальмэна.
— Робер прав, — резко вмешался Оливье, в нем уж совсем ничего не осталось от маркиза, — вы, милые дамочки, изрядно нам надоели.
Лидия собрала свои вещи, валявшиеся на столе: зажигалку в крокодиловой коже, пудреницу, помаду, мундштук и сигареты «Филип Морис» — бросила все это в сумочку и вышла.
— Двумя меньше! — заключил Оливье.
Слышно было, как Лидия вошла в комнату, где спала Домино. До них донесся легкий, словно шелест ручья, шепот, прерываемый всхлипываниями.
Тогда Оливье опять вложил в магнитофон обойму непристойностей и стал остервенело подпевать хору:
В один прекрасный день
Сестра Шарлотта…
Метж молча ела, пила. Фред бросал на «стариков» виноватые взгляды. Оливье, хоть и перебрал немного, понял их смысл и поспешил утешить Фреда: