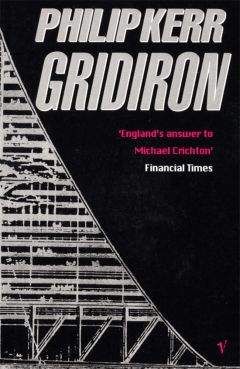Арман Лану - Свидание в Брюгге
— Трудно сказать, какой механизм тут срабатывает. Возможно, это остаток детских страхов, присущих одному человеку или людям вообще. Знаешь, как дети избавляются от своих страхов? Если тебе удается убедить ребенка, что перед ним никакой не призрак, а просто колышется занавеска, — его страха как не бывало. Когда люди поняли, что блуждающие огни на болотах всего лишь горящий газ, разговоры о душах грешников сразу прекратились. По крайней мере, в связи с этими огоньками…
Оливье, хоть и немало выпил, прекрасно владел собой. На какую-то секунду Робер представил его десятью годами раньше — маркиза Оливье Дю Руа, практикующего в одной из клиник… Его друг на правильном пути.
— И потом, — продолжал Оливье, — психоанализ действен только тогда, когда между больным и врачом установилось полное согласие.
— Как у соучастников.
— Если хочешь, они соучастники в поисках причины травмы. Но такую аналитическую работу можно проводить с больными не очень тяжелыми. Для тяжелых, так как они не понимают, что от них требуется, изобрели разного рода трюки, помогающие «разговорить» их.
— То есть обнаружить демона и изгнать его?
— Совершенно верно. Именно в этом заключается идея всяких шоков, применявшихся ледяных ванн, вертящихся барабанов, куда сажали этих несчастных, Признание. Допрос. Заставить их разговориться. Поэтому психиатра очень долго воспринимали как инквизитора…
— A-а! Так вот о чем Салемские колдуньи.
— Ну да! Если больной сам не понимает, что от него требуется, ему надо помочь «растормозиться». И тут прибегают к разным способам. Одним из них является электрошок, в определенном смысле. Но есть менее сильное средство — химический шок. Или как его романтически называют — «вспрыскивание истины», что слишком огрубленно, но не лишено смысла.
Фред прикуривал от зажигалки. Дрожь пальцев передавалась пламени. Но Фред молчал. Метж — тоже.
— А когда больному нельзя назначить из-за сердца шоки, тогда помощь может оказать и гипнотический сон. Существуют приверженцы Шарко, но они не любят в этом признаваться. Ну и еще несколько способов, довольно сомнительных, на мой взгляд, например, психодрама, или социодрама: по канве, данной врачом, больные разыгрывают сцену, где подопытному поручена определенная роль.
— Что-то не понимаю.
— Я тоже, — сказала Метж, перестав наконец жевать.
— Ну, например: разыгрывают кражу в больнице. Один изображает главврача, другой — комиссара полиции, кто-нибудь — свидетелей. Врачи наблюдают за одним из больных, он, конечно, об этом не подозревает. Изучают его поведение. И иногда во время игры он проговаривается.
— Чудесно, — сказал Робер.
— Не будем преувеличивать. С детьми, с подростками метод игры иногда оправдывает себя. Но, насколько мне известно, на взрослых его испытывают реже.
Оливье наполнил стакан и одним духом осушил его. Чем сильнее он бывал взволнован, — а когда он бывал взволнован, то речь его становилась торопливой и он заикался, — тем хладнокровнее вел себя. За этот вечер, начинавшийся в суматошном веселье, Оливье Дю Руа как-то возмужал и посуровел, что выводило из себя беззаботно юного Фреда.
— Есть и другие способы. Иногда для молодых правонарушителей используют метод выпытывания. Их «заводят». И случается, что в таком почти шоковом состоянии парень выплескивает из себя все, что накипело у него на душе. Вот, например, какая история произошла в одном детском приюте, неподалеку от Парижа. Одного новенького никак не могли разговорить. И вдруг во время очередного «представления» парень раскрылся. В этой «психодраме» он играл роль скрипача. И вот в какую-то минуту он вдруг останавливается и, подхватив свою скрипку, бросается наутек. Воспитатели с ног сбились — парень как в воду канул, в конце концов его, нашли в погребе, он сидел у открытой печки и плакал. А от скрипки остались лишь раскаленные струны. Мальчика душили рыдания. Оказывается, он мечтал о скрипке. Отец обещал ему купить. Сын получил свидетельство об окончании средней школы, и отец скрепя сердце подарил ему пресловутую скрипку. Но уже на следующий день ему так надоело пиликанье, что он конфисковал инструмент. Несправедливый поступок отца привел юношу в негодование, он озлобился и замкнулся. А в результате стал поджигателем, что и привело его на скамью подсудимых. Вот так-то…
Метж вся обратилась в слух.
— Увы, — вздохнула она. Метж говорила с сильным фламандским акцентом. — Мы совсем не умеем так работать, мосье Оливье.
Оливье снова налил себе. Фред кончиками пальцев постукивал по столу.
— А что такое твоя запись Ван Вельде?
— Это запись сна-бодрствования. Врач стоит у постели спящего больного и тихонько нашептывает ему. Когда слова достигнут сознания больного, он начинает отвечать. Он продолжает спать, но в то же время говорит.
— А на кой хрен все это, — грубо оборвал его Фред. — Еще при царе Горохе любой лекаришка — дай ему твоего полоумного — смог бы разглядеть все признаки белой горячки. Собаки, кошки и прочая тварь! Вот уж лет сто, как все об этом знают. Он ничем не лучше других, твой Ван Вельде!
Фред произносил отдельные слова тоже на местный лад.
Оливье побледнел. Голос его напряженно зазвенел:
— Тебе, как я вижу, Фред, здорово не по душе, что имя Сюзи упоминалось ее мужем. А он как-никак ее муж! И он дрался на войне. Не то что жалкие недоноски, вроде тебя, которых откармливали витаминами и отпаивали сиропами, чтобы они не подохли раньше времени.
— Прошу вас, Дю Руа, — вмешалась Метж. — Оставьте Сюзи в покое. Я каждый день работаю бок о бок с ней. И я ценю ее. Она не только превосходная сестра, она настоящая женщина!
Было уже очень поздно. Оливье больше не мог владеть собой. Он стал пунцовый от бешенства. Фред, задетый за живое, злобно уставился на Оливье.
— Да пошли вы… несчастные импотенты, тычут нам все время в морду своей войной! Я родился в тридцать втором. И мне было в тридцать девятом семь лет. Понятно?!
Он в упор смотрел на Оливье: старикан Оливье порядком хватил — и ведь этиловый спирт хлещет. Ну и железная печенка у него! А тот сидел багровый от бессильной злобы, от сознания, что природа производила на свет людей, не спрашивая ни у кого совета. Его заливал багрянец всех тех зорь, которые горели для него и которые ничего не говорили сердцу молодого бельгийского эскулапа, все время уходившего, словно в раковину, в свой эгоизм. «Маски, поспорившие из-за селедки», — подумалось Роберу: он вспомнил картину с Фландрской улицы и чудаковатого Августа из лавки сирен.
— Дело не только в Сюзи, хотя ты самый настоящий кот, — рубил Оливье. — Дело в том, что ты вообще дрянь, ты и многие твои сверстники, которым начхать — как вы говорите — на всякий долг. Ты дрянь, потому что не хочешь видеть ничего вокруг. Сюзи? Да мне-то что, коль сама лезет! Ван Вельде? Черт с ним, пусть подыхает!
— А мне — не «черт с ним», — бросил Робер.
— Да дело не в нем, Робер. Ван Вельде — это уже другой вопрос. Я о Фреде говорю. Он — одна из форм, в которую выливается гнусь нашего Запада, форма рыхлая и переменчивая, разносимая по белу свету мотоциклами! Я повторяю, Фред: ты стал взрослым мужчиной благодаря вливаниям кальция и телячьего жира! Ты типичный маменькин сынок, эдакий гаденыш. Посмотри на себя в зеркало: видишь эту личинку с безукоризненно гладкой кожей и огромными томными глазами? Именно личинка! Бледная спирохета! Ты вырос из войны, как гриб из земли, удобренной костями расстрелянных. Ты все время норовишь смыться — и от меня и от Ван Вельде, от Сюзи, от Эгпарса, от башибузука, твои ягодицы все время так напряжены, что между ними не прошел бы даже листок туалетной бумаги самого высшего качества. «Нежная, как пух» — вам, конечно, известна — это последний крик моды в Брюсселе — бумага марки «Нежная, как пух» с нотами песен! Напомните мне, Метж, я подарю вам пару пачек, — надеюсь, вы не думаете, что я вас не уважаю, избави бог! Верх комфорта, дальше некуда! Фред, а ты убежден, что твоя шкура так уж ценна? В конце концов, ты всего-навсего мешок дерьма.
Фред скривился.
Когда же наконец они, те, кто не имел дела с войной и кто не подвергался всяким там расправам и пыткам, когда же наконец они избавятся от этого воинства старых одноногих бойцов тысяча девятьсот четырнадцатого, ипохондриков тридцать девятого — сорокового, полу-убийц сорокового — сорок пятого. Когда?! Фред насупился. Его боевой запал постепенно проходил. Он просто недоумевал. Действительно, между ними — пропасть, между всеми этими людьми и его сверстниками.
— Ты мне п-прот-тивен, — неумолимо продолжал Оливье. — Мы живем в век телевидения, абстрактной живописи, конкретной музыки, функциональных домов… в век, когда люди преграждают путь эпидемиям и, может быть, окончательно расправятся с этой мерзостью — туберкулезом, который в свое время расправился с множеством жизней. Мы живем в эпоху, когда наука вот-вот начнет переделывать наследственность, в эпоху, когда стали возможны операции на сердце, и утратило свою определенность понятие смерти, хотя еще недавно это было единственное однозначное слово в нашем словаре глупцов! — Он нервничал и торопился произнести неподатливые согласные. — Мы подошли к кибернетике, недоумок ты этакий, к неэвклидовой геометрии, пустоголовый болван, уже недалеки и межпланетные путешествия, жалкий шкодник, вот-вот рухнет трухлявый капитализм, поганка ты несчастная, меж тем как коммунизм набирает силу, зажравшийся ты кот! Все бурлит, к-как никогда!.. И эти перемены, эти крутые повороты, этот разбег… это потрясение основ — грандиозно! А ты, самодовольный индюк, набитый требухой… у тебя только одно на уме — твоя гладкозадая шлюха, которой все едино — что лечь, что высморкаться! Т-ты не узнал, какой ты у нее по счету? — Оливье задохнулся от бешенства. — Ты бы протер глаза-то, когда целуешь свою шлюху. Небось, на ней клейма негде ставить. От-отшлифована на совесть, как старая кляча. Из-за этого у тебя мозги и не шевелятся, подонок!