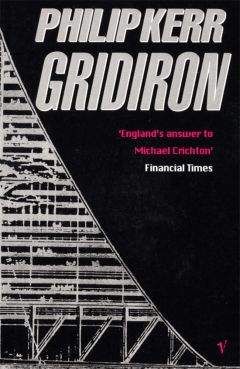Арман Лану - Свидание в Брюгге
Фред побледнел и съежился.
Оливье все больше расходился, он сам попался на крючок, как в той только что разобранной им «игре», вино развязало ему язык, и гнев вырвался наружу.
— Тебя заботит только, как бы побыстрее получить звание да получше устроиться, ему подавай богатых психов: из них можно больше выкачать! Ты знаешь, Робер, ведь этот юноша собирается пользовать уроженок Брюсселя в одной милой маленькой частной клинике недалеко от Тервуэрена, в полном согласии со своей совестью и налоговой системой. В общем, курс взят — и бесповоротно — на франк, этот не подведет, а война — так ведь наш барчук ее не нюхал. В зубах у него навязла наша война! Расстрелы, лагеря, могилы, пытки — это моветон. Хватит про это! Поговорим лучше про мамбо! Фред, ты ходячий минус!
Робер в изумлении смотрел на Оливье. Он никогда не видел его в таком состоянии: этот святой гнев — и у кого! У авантюриста Дю Руа, у маркиза с множеством несхожих ликов, у перекупщика пенициллина, ставшего вдруг исступленным служителем самой животрепещущей из наук, той, что связана с лечением неизлечимо больных.
— Ты слишком суров, Оливье, — еще раз попытался оправдаться Фред. На миг страстность старшего коллеги поколебала Фреда; испугавшись своей прежней смелости, он уступчиво сказал: — Мне тоже не дают покоя разные проблемы.
— О, не дай бог твои девки плеснут тебе в морду серной кислотой в приступе ревности, — вот и все твои проблемы.
Оливье был пьян, пьян от выпитого, от негодования, от злобы; вино Дордони сорок третьего, сорок четвертого годов ударило ему в голову. Как водка на эфире, которая горячила кровь у ребят из партизанского отряда, стоявшего в Аглене Верхнем в тридцать девятом году. Но это воспоминание, едва достигнув сознания Робера, тут же растворилось в нем и исчезло бесследно.
Оливье не унимался:
— Наше милое современное общество ходит по острию ножа и рискует сорваться. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что впервые с сотворения мира человек столкнулся с силами, высвобожденными им самим же и не поддающимися больше его контролю…
— Венгерские события, к примеру, — вставил Фред.
— О нет, — сказал Оливье. — Венгрии ты не тронь! Ты, может, думаешь, что русские вмешались в дела Венгрии, потому что им этого очень хотелось? Дурак! Прошлись этак легко и радостно по стране и — все в порядке. Идиот! Запомни — это не тебе решать. Это решать другим — тем, кто хоть как-то когда-то попробовал изменить наш мир. Пусть даже они ошибались. Пусть даже теперь ошибаются. Так, значит, ты полагаешь, что русские забавы ради вводили туда свои танки! Ты мыслишь в точности, как заурядный буржуа. Но предоставим разобраться в этом деле самим венграм и русским. Оно кровоточит, конечно, но кровь-то алая! Вот если б из тебя пустить кровь, она наверняка оказалась бы черной. Ты разлагаешься заживо. — Оливье закашлялся, побагровел и продолжал: — Т-ты считаешь, что я старше тебя на десять лет. Так вот, н-не на десять, а на сто! Ты живешь в девятнадцатом веке, осел! Созданный человеком электронный мозг способен производить такие расчеты, которые человек не смог бы произвести, даже если бы математическая наука шагнула вперед еще на три столетия. Атомная сила вырвалась на свободу, и трудно сказать, что еще может атом дать человеку; а наш уважаемый мосье задается вопросом, отказаться ему или нет от тела ядреного — согласен, но и пользованного, слышишь, п-пользованного, — некой Сюзи, которую так же, как и его, ничто решительно не волнует. Но она-то женщина! Слышишь ты, пучеглазый болван, альпийский выродок!
— Башибузук, — машинально добавил Фред.
Метж попыталась переменить тему разговора.
— Будьте снисходительны, Оливье, относитесь к нему как зодчий к своему творению. Помните? В Брюсселе…
Кретин! Людям приоткрылся новый мир, где иначе, чем прежде, выглядит таблица измерений; ч-человеку не х-ватало одного измерения, и человек нашел его; ему открылось «искривление пространства», он выработал общий для всех язык, ввел понятие циклической истории, создал науку о мозге. Но мосье волнует, сможет ли его папа-бургомистр финансировать роскошный бордель, предназначенный для патрицианок с комплексами, для этих кающихся шлюх. Боже мой, слов нет! Наша эпоха потрясает, трудно представить, что все это может быть, дважды два уже н-не четыре и до луны — рукой подать, и-и-и…
Слова не поспевали за мыслью, подстегиваемой вином.
— В-в наше время не бьют вслепую: теперь уже можно предугадать исход «игр», затеянных учеными, а те не лезут напролом. Человечество встревожено: не взъерепенится ли в конце концов планета и не лишится ли потомства род человеческий из-за кретинов, которые обращаются с атомом, как с биллиардным шаром, или — не будут ли дети рождаться сверхчеловеками и не перестанут ли в результате мутации совершенно быть похожими на нас… Мутация — приманка шлюх!.. И сможет ли сегодняшнее молодое поколение подчинить себе эти разыгравшиеся силы или они сомнут его. Люди мечтают добраться до звезд, а мосье в это время уволакивает мой мотоцикл, чтобы смотаться от своей сучки, которая по недоразумению приняла этого недоноска за взрослого самца! И это мужчина? Проститутка! Больше даже, чем отделанная им сестрица…
— О, Оливье! — запротестовала Метж.
Фред вскочил. Его коллега слишком много себе позволял.
— Хватит! Ты — блестящий ум, Дю Руа, но, боюсь, тебе придется доживать здесь свои дни, и не в должности главврача!
— Слава богу, — облегченно вздохнул Оливье, — наконец-то заговорил мужчина.
Его руку, сжатую в кулак, вдруг повело вверх, и он ударил Фреда под подбородок.
Парня отбросило назад, он рухнул на посудный шкаф. Все произошло молниеносно, вид комнаты сразу изменился: опрокинутый стол напоминал пьяные пиршества с кровавыми драками. Оливье, обезумевший, уже сидел на Фреде и подбирался к его горлу, внезапно его словно что-то толкнуло, он отпустил Фреда, с отчаянием взглянул на свою руку, и Робер понял, что Оливье уже когда-то так делал.
Он схватил Оливье за кисть, тот не сопротивлялся.
— Эти молодые подонки вызывают во мне тошноту, — прошептал Оливье. — Разве можно сделать жизнь чистой, когда существуют такие скоты.
Фред ошалело смотрел на своего старшего коллегу. Он не понимал, отчего тот выходит из себя. Отчего он выговаривает ему, почему злится, почему набросился на него с кулаками, да еще использовав прием профессионального бандита.
Он поскреб в затылке.
— Да-а, — протянул Оливье, уже совсем тихо и неожиданно печально, — вот тебе типичный представитель той самой мелкой буржуазии, что верит лишь в социальное страхование, в холодильник, ведет размеренную жизнь, живет в стандартных домиках, смотрит телевизор и развлекается с горничной. Наша тревога понятна, Робер, — их ведь много. А этот, малыш-то наш, он уже сейчас прикидывает, каков будет доход от консультаций, каково приданое жены, а лет через десять он будет страдать печенью и лечиться в Больдофлорин. И он, конечно, мечтает о двойном подбородке, как у всякого уважающего себя бельгийского буржуа. Мы в двадцать лет считали, что оставили буржуйчиков далеко позади себя. Но они рядом, и мы плетемся у них в хвосте. И они молоды! Молоды! Паршивцы!
Наступило молчание, тяжелое тяжестью противоречий, в которые безнадежно уперся мир.
Раздался телефонный звонок.
Фред хотел было подойти, но Оливье опередил его, и тот остановился на полпути.
Оливье сказал всего два слова: «Да, мосье», — и повесил трубку.
Потом повернулся к Роберу.
— Эгпарс просит меня пойти посмотреть Ван Вельде.
— Мне можно с тобой? — спросил Робер.
— Да.
— Наверное, я бы тоже мог пойти, — предложил Фред.
В его словах чувствовалось огромное желание услужить, порыв души растерянного и опечаленного мальчишки. Из-за спины Фреда выглядывала одна из сомнамбул, она загадочно улыбалась, обнаженная, написанная художником в натуральную величину. Контраст между плоскостным рисунком и рельефно выступавшей на его фоне фигурой взъерошенного молодого человека неожиданным для всех образом раскрыл смысл символики художника. Это же богиня древних Изида встала во весь свой рост за спиной юности, в недоумении взирающей на Человека, представшего ей во всей его непостижимости. Это Изида Жерара де Нерваля, предшественница западной Марии, Изида, наконец-то увиденная и разгаданная, богиня этих непонятных мест, неизменная богиня бытия и небытия. Фред стоял поникший, не подозревая, что существует это извечное сходство между юностью и сфинксом. Он напоминал нокаутированного боксера. Но не было больше ни злобы, ни недовольства. Может быть, только сожаление.
— Нет уж, уволь, — сказал Оливье, окончательно протрезвившись. — Как-нибудь без тебя обойдемся. Иди ложись спать. А вообще все это похоже на цирк, хорошо, что не на театр ужасов.