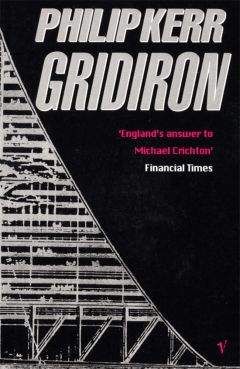Арман Лану - Свидание в Брюгге
— А, наконец-то! Не хотите ли закусить с дороги?
Разозленная присутствием постороннего человека, Жюльетта резко оттолкнула Робера, а святая сестра с легкой ухмылкой на губах величественно проплыла мимо. Она и не такое видала, — слава богу, нагляделась на этих эскулапов! Но не она была предметом внимания Жюльетты, а молодой человек, который спускался по лестнице.
— Здравствуй, Фред, сукин ты сын! — завопил Оливье. — Ну и наделал ты дел! Должен тебе сказать, я отнюдь не недоволен, что вижу тебя опять здесь!
На Жюльетту вдруг напал нервный смех. Она билась, словно в истерике. В этом Фреде она узнала того самого мужчину, которого несколько минут назад обвинила в извращенчестве.
Молодой медик почтительно склонился перед дамой, испытывая, правда, некоторую неловкость и отчасти растерянность.
Нет, вы только подумайте! Умереть можно! Как смешно… Прямо плакать хочется.
Глава III
В интернате — большом изолированном здании, построенном совсем недавно и, как все остальные, из красного кирпича, но только с вытянутыми в ширину оконными проемами, — размещались столовая, помещение для гостей, залы для посетителей и комнаты для одиночек из медицинского персонала.
Робер с Оливье и Лидия с Жюльеттой, а также Фред и старшая сестра женского отделения Метж сидели в столовой за накрытым столом. Меню Марьякерке включало обычные для больницы блюда плюс то, что приносили сами столовавшиеся. Они получили тунца из меню больных и специально для них зажаренный бифштекс. Стены этой залы декорировало изощряющееся неспокойное воображение художника-сюрреалиста Дельво.
Со времен Босха и Брейгеля, «Корабля дураков» и «Безумной Марго», со времен ужасной «Безумной Греты» установилось молчаливое согласие между живописью и безумием, и еще свежие фрески Дельво только подкрепляли это ощущение, равно как и дом-музей Энсора. Дельво воспринял его главную тему и перенес ее на эти стены. Художники-«сновидцы», переполненные своими видениями, с таким же трудом избавляются от них, как и больные от навязчивостей.
Пустынный античный город, перспектива колоннад, — художник сумел создать полную иллюзию реальности. Белокурые нагие женщины с напряженным взглядом огромных глаз, которые устремлены вперед; они спешат на печальное празднество, где будет исполнен жестокий обряд: далеко впереди маячит почти неразличимый человеческий скелет, — Дельво разделял эксцентричный вкус его современников. Тщательно выписанный венерин холмик обличает животную сущность этих прекрасных созданий — будущих жертв, но против нее восстает чистота, запечатленная на лицах. Большие банты из розовых или зеленых шелковых лент в кроне волос, лунный свет, цветы, пробивающиеся из щелей в навощенном полу, определяют этим меланхолическим существам роль служительниц Фрейда, если не Мазоха, тем более что рядом с великолепно представленным сомнамбулизмом соседствует вожделение, которое символизируют мелкотелые мосье в котелках и рединготах зеленоватого цвета, корректные и внешне спокойные.
— Превосходная иллюстрация к роману об О., столь милой сердцу нашей прелестной Жюльетты, — любезно пояснил Оливье.
— Да хватит же наконец, — взорвалась Жюльетта. — Это уже похоже на заговор!
Но Оливье на публике входил в раж и дурачился больше обычного. Только тогда он бывал самим собой. К его услугам тотчас же явились все ходячие остроты и выражения, весь репертуар побасенок и присказок великовозрастного студента. Озорство молодило Оливье, сбрасывая с него сразу лет пятнадцать. В нем жил дух студенческого общежития, дерзкой студенческой аудитории, чудесным образом сохранившийся в этом зрелом, видавшем виды человеке. Он любил иногда сказать: «Ну ты, прислужник дьявола», — или: «Молчать, чертовы куклы!» — и хотя временами его остроты звучали немножко нелепо, они не умаляли ни его мужественности, ни его обаяния, и они трогали, так как за ними скрывалась боль человека, тоскующего о своей молодости, которую у него отобрала война. И в конце концов, чтоб уверовать в себя, необходимо иногда возвыситься над окружением. По правде говоря, только одного Робера это не раздражало, и то по той простой причине, что успех уже вознес его достаточно высоко и он не нуждался в такого рода самоутверждении.
Больница, как утроба матери, оберегала Оливье от внешнего мира, служила залогом его покоя, и он расцветал. Подобно одному из персонажей современного Босха, он исполнял свою партию в скорлупе. Робер понимал, что произошло с его другом. С тех пор как Оливье Дю Руа выбрал этот путь, он с точки зрения обывателя оставил путь борьбы. Отныне материальное благополучие его не интересовало. Сон, пища отошли на второй план. Отпала надобность драться с угрюмыми дельцами. Теперь он мог целиком отдаться умозрительным построениям и замкнуться в своем, близком его юности, мире.
Оливье рассказывал упоенно, позабыв о еде, и только время от времени потягивая сербское вино, вобравшее в себя ароматы гор, — единственная роскошь, которая здесь была доступна. Он рассказывал о шумных практикумах студентов-медиков, сперва в Клермоне, где он проходил практику до Бельгии, а потом в Марьякерке, об атмосфере бесшабашности, царившей на занятиях, бесшабашности, которая была вызовом и реакцией молодых людей на болезнь, страдание, смерть. Оливье рассказал несколько забавных историй. Как они встретили некоего робкого ассистента из Дембурга — предшественника Фреда, — они ему поставили клизму из красного вина. Как они флиртовали с сестрами, какие бурные ночи они проводили. А потом еще конкурсы на лучшего пукальщика, которые как-то расцвечивали нудную больничную жизнь молодых медиков; и, конечно, — традиционные похабные песни.
У Оливье был магнитофон, и он записывал неожиданно подслушанный интересный разговор, фрагменты из музыкальных произведений, передававшихся по радио или наигранных на пластинку, особенно часто у него встречался Скарлатти и Куперен Старший, — он обожал Уроки сумерек, их горделивую торжественность, обожал поэмы Мишо, единственного поэта современности, который его по-настоящему трогал. Оливье встал и включил магнитофон. Мужской хор пел старинную песню — любимую песню национальных гвардейцев:
Герцог Бордо так похож был на папу,
А папа тот был знаменитый боксер,
Робер узнал один из вариантов дерзкой песенки времен Реставрации в обработке Пьера Дака и Фрэнсиса Бланша, которую исполнители подали под еще более острым соусом:
И он прямо на ковре,
И он прямо на ковре.
Прямо на ковре…
Ангулемского вельможи.
Лидия с изумлением смотрела на своего мужа: Оливье словно подменили — тот, прежний, одевался, как сэр Антони Иден, и обедал лишь в самых дорогих ресторанах. Этот же, обмотавший шею кашемировым платком, руками хватал салат, а из-под расстегнутой куртки у него выглядывала фланелевая рубаха. Ей казалось, что ее обворовали, она испытывала то же чувство недоумения и негодования, что и жена Гогена Мет, когда ее муж из элегантного маклера парижской биржи, — а за него-то она и выходила замуж, — вдруг к тридцати годам превратился в одичалого мужика. Тот сам себя окрестил «старым морским волком» и знать ничего не желал, кроме своих картин.
Оливье разошелся.
— Эй ты, чертова наложница, — кричал он, — передай мне вон ту попову жвачку! И что это за физиономия оскорбленной жены, поди возьми себе другую на вешалке!
Лидия не знала, как держаться: игра оказалась для нее неожиданной. Что касается Жюльетты, то всякий раз, как Оливье заводил свое: «Чертова наложница…», «Дай я тебя обниму, чертова ты наложница, поговорим с тобой о моей почтенной матушке», — она подскакивала словно ужаленная.
Но Оливье ничего не замечал. Его уносил поток воспоминаний.
— О, забыл рассказать вам про одну брюжскую мадам. Это случилось, когда я ехал сюда поездом из Брюсселя. Проходит мимо контролер. Когда, спрашиваю, будем в Брюгге. А в купе сидела еще одна дама. Элегантная, лет пятидесяти. Она мне и говорит: «Я вижу, вы француз, мосье, я могла бы стать вашим гидом». Разумеется, гид женщина или не гид — от любви это не спасает, но мадам — не первой свежести. А в конце концов, почему бы и нет? И вот выходим мы в город. Мадам говорит без умолку. Она столько всего пережила! Война четырнадцатого года, оккупация. Она участвовала в Сопротивлении, и ее чуть было не отравили цианистым калием. Теперь она вдова и живет в Остенде — там очень здоровый климат. Она идет к парикмахеру, в сторону Гран-Плас, и пусть я не беспокоюсь, ей по пути со мной. «О, в Брюгге гораздо веселее, — щебетала она, — но тут — держи ухо востро». Она уже порядком надоела мне, но в то же время она меня заинтриговала.