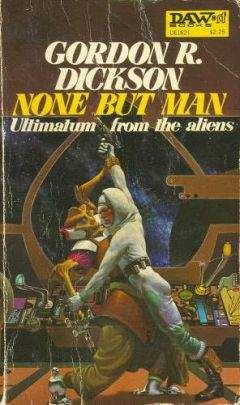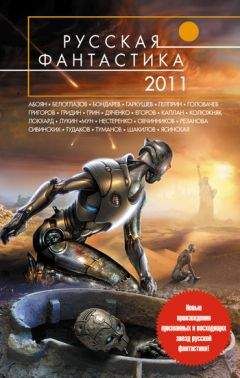Лев Александров - Две жизни
— Да. У меня мама в Германии училась.
— Ну, и как тебе "Моя борьба"?
— Муть, конечно. Примитивно. Такая смесь наглости, самолюбования, ненависти и сентиментальности. Но написано мастерски. Адресовано точно. Недаром он их всех, ну, почти всех, охмурил. Я в сорок втором многих немцев допрашивал.
— Человека охмурить легко. И не только немцев.
Борис посмотрел на Шерешевского. Нет, никакой улыбочки. Лицо серьезное. Воротничок застегнут, как вчера. Образцовый советский офицер.
Когда подходили к себе, Шерешевский спросил:
— Слушай, Борис, а кто у вас в полку смерш?
— Есть такой красавчик, Коля Травин. Строгий мальчик. Нет, не так, чтобы совсем ни с кем не общался, даже выпить в компании может, но все же держится на расстоянии. Живет в крытом фургончике со своей ППЖ — машинисткой Особого отдела. Туда даже Курилина не всегда пускают, все секретно. Немцев очень не любит, близко к ним не приближается, в тылах полка с помпохозом время проводит. А что интересуешься?
— Да так, на всякий случай.
Знакомство с Малой землей, списочным составом, с планом действий в случае немецкой атаки (на кой эти планы, если начнется, никто о них не вспомнит), с кодированными номерами начальства, много времени не заняло. После обеда Борис сказал:
— Я на ужин пригласил переводчика из дивизии, Леню Морозова. Он для украшения компании фельдшерицу из медсанбата приведет. Наш фельдшер долдон долдоном, а эта Раечка девочка приятная, поет хорошо. Леня гитару принесет. Ты не думай, никакого офицерского борделя, я и кое-кого из разведчиков позову. Не возражаешь?
Вечером Шерешевского как подменили. Гимнастерку расстегнул, рассказывал с акцентом смешные грузинские истории, кончающиеся неожиданным тостом, со вкусом ухаживал за Раечкой, преувеличенно восторгался ее пением. Потом сам взял гитару. Пел русские и цыганские романсы, пел под Лещенко, под Вертинского. Пел почти профессионально, актерски. Раечка и разведчики слушали, не спуская глаз.
Разошлись часа в три. Сашка оттер Морозова, пошел провожать Раечку. Через час вернулся. Молча разделся, не зажигая коптилки. Закурил. Тихо спросил:
— Не спишь?
— Тебя ждал.
— Знаешь, я, когда выпью, голову теряю. Могу глупости наделать. Не давай мне напиваться.
— Как я не дам, если ты хочешь? Не могу же я тебе приказывать. Ты капитан, я лейтенант.
— Причем здесь это? Я же с тобой, как с человеком, говорю. Если увидишь, что контроль над собой потерял, — хоть связывай. Позови своих ребят и свяжи. Потом спасибо скажу. Бывало со мной всякое. Я из того полка ушел, потому что дал по морде заместителю комполка по строевой. Тоже выпил. Но дал за дело. За одну телефонисточку. На тормозах спустили, чтобы сор из избы не выносить, но пришлось уйти. Да я и сам рад был: сволочей там много. Здесь у вас вроде поменьше. А теперь считаю повезло — с тобой встретился.
Через несколько дней Шерешевский спросил:
— А в карты здесь не играют? Я у Мурыханова, кажется, видел — колода на плащ-палатке валялась.
— Балуются ребята в очко… Молодым офицерское жалованье девать некуда.
— А ты играешь?
— Вообще-то играю, но у меня денег мало, я себе только сотню в месяц оставляю, остальное оформил аттестатом матери.
— Слушай, Борька, организуй игру. Мне деньги нужны. Я в том полку остался должен четыре тысячи, а есть только восемьсот. У тебя хоть немного есть?
— Две сотни.
— Я тебе еще триста дам, будет пятьсот. Неужели мы вдвоем четырех тысяч не наберем? Выиграем четыре и хватит. Если друг у друга не срывать банк, за ночь хорошей игры можно набрать.
Позвали Мурыханова, фельдшера, несколько человек из пехотной дивизии. Играли с малыми перерывами на личные и военные дела двое суток. Сашка отпросился на день у Суровцева на Большую землю и сгонял на мотоцикле за тридцать километров. Отдал долг.
В очередном письме к Елизавете Тимофеевне Борис написал: "Кажется, у меня впервые в армии появился друг", а вечером перед сном прочитал Сашке:
Лишь утихнет гром орудий,
И с войны со всех сторон
По домам уедут люди,
Просто люди, без погон.
И придет на берег невский
Александр Шерешевский,
И, сверкая орденами,
С неубитыми друзьями
За бутылкою вина
Вспомнит, что была война.
Вспомнит мертвых, уцелевших,
Пули свист и мины вой,
И ряды машин сгоревших
У дороги фронтовой,
Номера разбитых Армий
Встречи, случаи, слова,
Как на Вайновском плацдарме
Он со мню воевал,
Как в тоскливый вечер серый
Неумелых офицеров
До рубашки раздевал.
Все двадцать самоходок стояли, как на параде, перед склоном. На пригорке — первая линия немецких укреплений — окопы, дзоты. Ясное дело, дрейфят ребята. Почти все командиры орудий зеленые, только что из училищ. Вылезешь на склон, прошьют немцы прямой наводкой насквозь. Броня на сучках хреновая, а боковые стенки и вовсе папиросная бумага. Пехота тоже лежит за машинами и не торопится.
Борис с Сашкой, Суровцев, разведчики и связисты — вся штабная бражка — толпятся у курилинской тридцать четверки метрахов шестистах от самоходок. Курилин в танкистском шлеме с биноклем картинно высовывается из башни. Зачем бинокль, и так видно, что стоят на месте. А по приказу, который объявили сегодня, девятнадцатого августа, на рассвете, когда после ночного марш-броска полностью укомплектованный полк переправился на этот новый большой плацдарм километров в тридцати южнее Вайновского, уже десять минут назад должны были прорвать обе линии обороны противника. Курилин, матерясь через слово, кричит в башню радисту:
— Передай комбатам, всех отдам под трибунал, если через пять минут не подойдут.
— Товарищ полковник, связи нет, не отвечают.
Конечно, нет связи. На памяти Бориса не было боя, в котором бы работало радио. Чем кричать, пошел бы на своем танке вперед, повел бы полк. Танк весь в броне, а самоходки, как открытые консервные банки, гранатами забросают, и все дела. Да нет, не пойдет. Уже под Одессой и на Малой земле стало ясно: в безрассудной храбрости Курилина не упрекнешь.
Комполка вылез из башни, спрыгнул на землю.
— Шерешевский, Великанов! Возьмите по два разведчика и на мотоциклах к самоходкам. Если потребуется, моим именем отстраните любого комбата, сами примите командование. И вперед. Когда прорвете вторую линию, доложите по радио, а если откажет, пришлите бойца с донесением, получите дальнейшие указания. Мотоциклы оставьте в укрытии, заберем.
Борис нашел глазами Полякова.
— Поляков и Баранов со мной, Рюмин и Кулагин с капитаном.
Мотоциклы пришлось бросить метров за сто от самоходок. Короткая перебежка, и залегли. Если сильно наклониться, пули свистят поверху, так что можно и не по-пластунски.
— Сашка, давай влево, бери первую и вторую батареи, я — третью и четвертую. Думаю, если первую линию прорвем, со второй немцы сами уйдут.
— Ладно. Ну — ни пуха…
Пошли. Страха нет, только азарт. Сквозь лежащую пехоту. Не останавливаясь, приподнявшемуся лейтенанту:
— Сейчас самоходки пойдут. Поднимай сразу за ними в атаку.
И Полякову:
— Абрам, ты к Мурыханову, я с Кулагиным на четвертую. Передай, я принял командование двумя батареями. Как только четвертая пойдет, пусть трогает. Чуть на склон поднимется, по одному выстрелу со всех машин. По окопам, над окопами — все равно. Чтобы шуму было побольше. Первую линию проскочим, остановимся, поможем пехоте. Давай!
Вот уже машина комбата-4. Комбат, лейтенант Скляренко, принял батарею два дня назад. Увидел Бориса, высунулся, махнул рукой, что-то крикнул. И сразу осел, свесился через борт.
Ногу на гусеницу, руками за острый край боковой брони, толчок и в машине. Кулагин уже здесь, успел с другой стороны. Командир орудия, молоденький младший лейтенант, губы трясутся, руки дрожат, бормочет нечленораздельное. У Скляренко аккуратная дырочка у левого виска. Пуля — дура.
Младшему лейтенанту:
— Фамилия?
— Орлов, товарищ лейтенант, уб-били комбата.
— Возьми себя в руки, Орлов. Стань со стрелком к орудию, сейчас пойдем. Как выскочим на прямую видимость, огонь по окопам. Там, вроде, слева пулемет у них, если сможешь, то по нему, не сможешь, не надо. Кулагин, оттащи комбата назад, чтобы не мешал.
Наклонился, толкнул механика-водителя в спину:
— Трогай, солдат. На полной скорости наверх, через окопы. Трогай, приказываю.
Даже головы не повернул. Борис вытащил Вальтер, дуло в затылок, приподняв шлем:
— Трогай, говорю. Считаю до трех, не выполнишь приказ — застрелю, сам за рычаги сяду. Ну!
Через пять минут все было позади. Самоходка остановилась метрах в двадцати за окопами. Борис с Кулагиным выскочили из машины. Пехота уже прострочила траншеи автоматами. Человек десять немцев с поднятыми руками сгрудились у ската ближайшего блиндажа, несколько солдат деловито снимали у них с рук часы. Одна из мурыхановских самоходок с покореженной левой гусеницей завалилась носом в окоп.