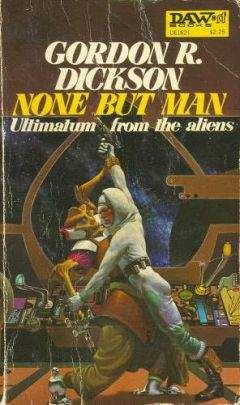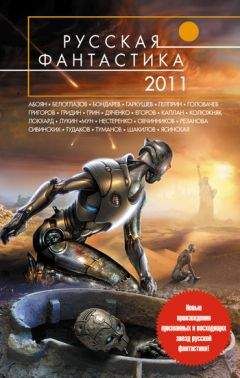Лев Александров - Две жизни
— Поздравляю, товарищи, мы вышли на Днестр, государственную границу. Саперные части фронта уже подготовили для нас понтонные плоты. Завтра ночью переправа. Наши части захватили на том берегу небольшой плацдарм и сейчас ведут бои по его расширению. Немцы пытаются плацдарм ликвидировать. Им это почти удалось. Сегодня от первоначальной малой земли глубиной 10–15 километров остался клочок километров пять. А было еще меньше. Значение этого плацдарма для будущего наступления вам должно быть понятно. Наша задача: скрытно и по возможности без потерь переправить все двадцать самоходок и занять рубеж на левом фланге нашей обороны, начиная от реки и метров на триста. Там сейчас одна пехота и две артбатареи. За переправу отвечает Суровцев. Пустых блиндажей на той стороне полно — рыть не придется. Штаб полка дислоцировать поближе к берегу. Тылы полка остаются здесь. Помпохозу организовать доставку продовольствия на лодках, переправить одну полевую кухню. Помпотех — на малую землю с группой ремонтников. Начарт остается здесь, обеспечивает бесперебойное снабжение боеприпасами. В его распоряжении все грузовики, кроме одного «студебеккера» и одного «шевроле» для помпохоза. ПНШ-1 со связистами обеспечивает телефонную связь штаба и моего КП с соседями на плацдарме, с тылами полка и со штабом Армии. ПНШ-2 с разведчиками на плацдарме непосредственно в моем распоряжении, а сейчас в распоряжении начштаба для подготовки переправы. Все. Несколько слов сейчас скажет замполит.
Варенуху Борис не слушал. Косноязычный, непросыхающе пьяный замполит с трудом промямлит несколько общих фраз, велит парторгу провести прием в партию под лозунгом "Иду в бой коммунистом". Все штабные офицеры, кроме Бориса, и комбаты уже члены, несколько новых молоденьких командиров машин наверняка вступят.
Когда кончилось, пошел к разведчикам. Велел Полякову проверить оружие: автоматы, пистолеты (хотя полагалось только офицерам, у всех разведчиков были немецкие), финки. Разобрал и смазал два своих: числящийся за ним «ТТ» и немецкий «Вальтер». Велел всем отдыхать до вечера, а сам пошел к Суровцеву.
— Товарищ майор, явился за приказаниями по переправе.
— Как стемнеет, будь с разведчиками на берегу. Река широкая, плоты хреновые, раз пять каждый плот придется туда и обратно перетягивать, бардак будет страшный. Ребята у тебя бывалые, Абрамчик твой тоже парень с головой. На плот по два разведчика, чтобы не канителились ни здесь, ни там. Сам с первым рейсом на плацдарм. Перед началом переправы получишь у полковника схему дислокации машин на той стороне, посмотри подходы, как идти самоходкам. Возьми с собой пару ребят проводниками для комбатов. Какие тебе еще приказания? Разберешься, не маленький.
Переправа прошла без потерь. Потом — пять суток непрерывного боя. Семнадцатого мая стало тихо. Немцы поняли — ликвидировать плацдарм не дадут, наши поняли — расширить плацдарм не удастся. Утром восемнадцатого мая перед строем офицеров полка был расстрелян командир второй батареи капитан Семен Голубович. У Бориса сложились хорошие отношения с этим, уже за тридцать, полноватым молчаливым белорусом.
В полку уцелели четыре самоходки. Их врыли в землю на левом фланге обороны. Мещерякова тяжело ранило, так что полк опять без ПНШ-1. Установили дежурство штабных офицеров на Малой земле, и первым на две недели остался Борис. Кроме экипажей машин под его началом были три разведчика, два связиста и фельдшер. Кормила их кухня соседнего пехотного полка, так что с большой земли гости приезжали редко, только начфин с зарплатой и почта, если была.
Через несколько дней Борис написал ночью при свете коптилки стихи о расстреле Голубовича. Написал сразу без помарок и исправлений. Как будто под диктовку.
Баллада о моем друге капитане
Семене Ивановиче Голубовиче, расстрелянном в Бессарабии 18 мая 1944 года.
Это было на Малой земле
С той стороны Днестра,
Где все измученнее и злей,
Где люди забыли страх.
Пять километров ширины
И в глубину два,
Такого за три года войны
Я еще не видал.
Было много пехотных полков
С той стороны реки.
Тридцать, двадцать, меньше штыков
Водили эти полки.
Тот, кто на той стороне был,
Мог бы по пальцам счесть
Пушки, танки и наши гробы СУ-76.
В то время шла по земле весна,
Цветы принося полям,
Но трупов было больше, чем нас,
И мы задыхались там.
В ушах стоял орудийный гром,
В глазах пожаров огни,
И столько пуль летало кругом,
Что сталкивались они.
И часто не спали на том берегу
С утра и до утра.
Нам рвал перепонки Юнкерсов гул
И жалили Мессера.
Со мной воевал один комбат,
Он был товарищем мне.
Спокойный, смелый, простой солдат,
Как многие на войне.
Он самоходки в атаку водил,
Сам всегда в голове,
И дзоты гусеницами давил,
Будто бы на КВ.
Мы рвались на север, на запад, на юг,
Ходили в немецкий тыл.
Сгорела машина его в бою,
И сам он контужен был.
А утром рано, едва чуть свет,
Комбатов созвал командир:
— Сигнал к атаке — пачка ракет,
Начало — двадцать один.
Для подготовки даю весь день,
Пехота — поддержка нам,
И эту, как сотни других, деревень,
Взять и остаться там.
А он поднялся и сказал так,
Стоя у всех на виду:
— Вчера я сделал двенадцать атак,
Сегодня я не пойду.
В моих висках словно молот бьет,
Сумрачен солнца свет.
Пусть батарею другой ведет.
Полковник ответил:
— Нет.
Он не на ветер бросал слова,
Весь день пролежал больной.
Две самоходки комбата-2
Не вышли сегодня в бой.
А восемь машин других батарей
Ворвались, дома круша,
И пять возвратились к нам на заре —
Пехота не подошла.
А утром на лодке приплыл майор
К полковнику и сказал,
Что он из Армии прокурор,
И книжечку показал.
— За то, что полк не исполнил приказ,
Деревню отдал врагу,
Пять процентов полка и вас
Я расстрелять могу.
Полковник наш побледнел слегка,
Но овладел собой.
— Второй комбат моего полка
Не вышел вчера в бой.
Увел майора к себе в блиндаж
И долго что-то шептал,
А после взял майор карандаш
И приговор написал.
Верно полковник с ним неспроста
Пару часов сидел.
Весь офицерский состав
Выстроить он велел.
Вышел майор, видно спеша,
Выстроились едва,
И, в руках бумагу держа,
Вызвал комбата-2.
Плечи расправив, потупя взор,
Он перед строем стоял,
Пока, заикаясь, нам майор
Приговор прочитал.
Я не помню его слова,
Я на друга смотрел.
Как опустилась его голова,
Услыша в конце: расстрел!
Встал позади у него солдат
В трех-четырех шагах.
В спину направленный автомат
Трясся в его руках.
Понял он, что сейчас конец,
И крикнул:
— Прощай, друзья!
Прощай, мама! Прощай, отец!
Прощай, Наташа моя!
Руки за спину он сложил,
Плечи выше поднял,
Ноги расставил, глаза опустил
И пули в затылок ждал.
И автоматчик курок нажал,
Но автомат молчал.
Он пять минут перед нами стоял
И пули в затылок ждал.
Бросил наземь майор автомат,
Свой пистолет взял
И восемь пуль в затылок подряд
Одну за другой послал.
В лесу под тополем он зарыт,
И мать его не найдет,
Могилы нет, и крест не стоит,
И мох наверху растет.
Я пишу на Малой земле
С той стороны Днестра,
Где все измученнее и злей,
Где люди забыли страх.
Никто не знает — где и когда,
Пуля или снаряд.
А лодки возят людей сюда
И никого назад.
— Товарищ лейтенант, начштаба подходит, с ним капитан незнакомый.
— Что же вы раньше не могли сказать, лодку прозевали?
Борис выскочил из блиндажа, как был, в трусах и босой. Середина июля, пятый час — самое жаркое время дня. До вечернего немецкого концерта чуть больше четырех часов.
— Товарищ майор…
— Отставить! Ты бы еще трусы снял. Распустились здесь на отдыхе. Живут, как в раю, яблоко с дерева сорвать лень, пусть само упадет. Познакомься, новый ПНШ-1, капитан Шерешевский Александр Иванович. А этот голопузый — лейтенант Великанов Борис Александрович, ПНШ-2. Пусть капитан с тобой здесь недельку поживет, с обстановкой освоится. С соседями познакомь. Не век же загорать, когда-нибудь и воевать снова придется.
Рядом с Суровцевым стоял высокий, немыслимо аккуратный и подтянутый офицер. Красивое лицо, спокойные голубые глаза. Хромовые сапоги начищены до блеска. Пилотка сидит почти прямо, лишь с намеком на легкий наклон к правому виску. На идеально, без складок заправленной гимнастерке гвардейский значок, ордена Красного Знамени и Красной Звезды. Ворот гимнастерки с чистым подворотничком наглухо застегнут. В левой руке маленький чемодан. Не вещмешок, а чемодан. Офицер вытянулся, козырнул: