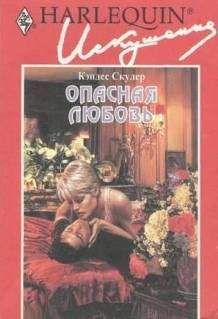Хуан Онетти - Избранное
Я здоровался и целовал Кеку с рассеянной страстью. Иногда лицо ее и голос в точности воспроизводили радостную нетерпеливую покорность первых недель. Мне стало казаться, что все можно наладить, что неисправность в ней самой либо зависит лишь от ее воли. Собственно, я не лгал, когда нагибался к ней в постели и с интересом прислушивался к тому, как струится поток крохотных тварей, мелких событий, будничного бесстыдства, который обрушивал на меня жадный женский голос среди ласковых прозвищ и резких, коротких смешков. Я не лгал, глаза мои были широко открыты, потому что я таил надежду и старался верить, что скоро вернется утраченный лад.
Помню, я открыл, почти ощутил на ощупь, что в комнате пахнет чудесами. Было это под вечер. Кека еще не вернулась, а я понял, что особое время короткой жизни пришло ко мне из мешанины бокалов, фруктов и платьев. Дело не в ней, убеждал я себя, это не она, это вещи. Я буду ласкать их с такой любовью, что они мне не откажут. Я буду их трогать, одну за другой, так доверчиво и твердо, что им придется меня полюбить. Попытки свои я начал с того, что перечислил их в памяти. Я решил, что они подразделяются на два рода: вещи сильные и вещи слабые, которые не могут ни создать, ни уничтожить Арсе. Труднее всего было угадать, в каком настрое перечислять их, как уберечься и от раболепия, и от властности. Картина, стол, простенок, этажерка, корешки книг, скатерть, кресло, кровать, грязный бокал, ваза с цветами, бокал, статуэтка, плюшевая скатерть, лампа, увядший цветок, перевернутый шлепанец. Произнося слово в уме, я останавливался на секунду и осмысливал то, что называл, пытаясь передать ему свою любовь и свою готовность к жертве. Обозначив каждую вещь, я встал с кровати, чтобы все потрогать, и поставить как следует, и нашептать им всем, по одной, что они — фетиши.
Однако в конце концов я понял, что провалился. Память или руки не отыскали ключевой вещи. Все было здесь, все могло наполнить комнату забвением, покоем, блаженством первых посещений. Но что-то барахлило, повинуясь неведомой обиде.
Был здесь и я, напуганный и безутешный. Медленно и осторожно осматривал я комнату, словно глядел на охладевшую любовницу, искал в ней ответа. Потом возвращался к первой догадке — решал, что чего-то не хватает в самой Кеке, в ее воле. Тогда я вынуждал ее напиться и оскорблять меня, и внезапно ее бил после ласки или нежного слова. С каждым разом это доставляло мне все большее наслаждение. Терпеливо, как ученик, я отрабатывал угол и быстроту удара, подавляя желание достичь высшего мастерства и противясь соблазну полной и неизменной радости, которую я испытывал, представляя, как убью Кеку и увижу ее мертвой.
IV
Встреча со скрипачкой
Дверь, полузакрытую огненным потоком фуксий, отворила девочка с привычно испуганным лицом, с прямыми косами, в синей косынке на шее. Она была очень мала, и Диас Грей подумал, что это карликовая копия другой девицы, со скрипкой, которую они застали в гостиной, у огромного рояля. Первая девочка, обреченная быть карлицей, провела их в комнату, удерживая, словно слезинки (по одной на каждый глаз), испуг и недоверие.
Она сообщила, что сеньор Глейсон спит, и попыталась улыбнуться. «Да нет же», — сказала другая, нормальных размеров, прижав к бокам скрипку и смычок и робко кланяясь, словно ей вежливо похлопали, когда она вышла на сцену. Здороваться так ее научили, прививая ей хорошие манеры; если же чаяния не оправдаются, она не станет знаменитой, приветствие это можно отбросить без особого вреда и для себя, и для других.
— Да нет же, — повторила она, словно музыкальную тему, возникающую вновь и вновь. — После обеда он спит, но сейчас уже должен проснуться. Если вы немного подождете… Я каждый день занимаюсь в это время, а он не просыпается, не слышит. Папа привык. Но как раз сейчас, наверное… Надо посмотреть, проснулся ли он, и сказать, что к нему пришли. Вы не присядете? Где вам удобней… — Она улыбнулась, отведя от тела скрипку и смычок.
Обреченная карлица повторила ее улыбку, завистливо взглянула — не на них, ни на кого, даже не на комнату, где царил рояль, а на ситуацию, таившую драматические последствия, — и бесшумно вышла.
Оставшись одна, скрипачка окрепла духом и снова поклонилась, сдвинув каблуки.
— Сеньора, сеньор… — сказала она. — А вам я не мешаю?
Элена и Диас Грей ответили: «Ничуть, ничуть», перебивая друг друга и решительно качая головами, чтобы отвести все подозрения. Тогда она вернулась к нотам на пюпитре, встала тверже на тонких ножках, примостила скрипку у подбородка и, неподвижно держа смычок, терпеливо подождала, пока Диас Грей вообразит довольно сбивчивое, мнимо-бесстрастное вступление на рояле. (Кто-то гуляет по листьям, опавшим в лесу. Тихо оплачем последнюю розу дождливого лета.) Скрипка яростно взмолилась раньше, чем надо, умолкла в смущении и покорно подождала. Диас Грей пытался представить текст к партии рояля; скрипачка терпеливо стояла почти спиной к нему, и под платьем круглился неожиданно большой зад — единственная роскошь этого скудного тела. Наконец она ответила на уклончивую речь рояля, пытаясь выразить то, что выразить нельзя, и снова смутилась, и пошла на ложь, стремясь только к тому, чтобы достигнуть приблизительной, возможной точности. Она добилась, чего могла, и кротко вынесла насмешливый рокот рояля. Музыку эту Диас Грей представлял себе, глядя на бедра юной скрипачки и перенося на них страсть, внушенную Эленой, а та усмехалась, покусывая бусинку ожерелья, и без особого нетерпения притворяясь, что слушает, ждала, когда же в тишине и дремоте послеполуденного часа появится несчастный беглец или мистер Глейсон сообщит о его отсутствии.
Скрипачка выводила нескончаемый вопль тоски, неназойливо внушавший, что воспоминание драгоценно. Потом, не дожидаясь ни отклика, ни ответа, она издала два пронзительных, радостных звука, перетерпела, пока рояль сыграет свое, вскричала опять, уступила роялю и, совсем теряясь, смешала свой голос с его голосом. Снова уступила, сколько нужно, чтобы ее слушали, и, немного хитря, задавая любезные вопросы, справляясь о здоровье и погоде, стала говорить то, что решила и должна была сказать. Наконец ей показалось, что можно договориться в ритме беседы, которую ведут старики у камелька. Диас Грей смотрел на ее бедра, такие широкие, что хлопни по ним — родятся дети. Паузы он подстерегал, чтобы разглядеть профиль, не мужской и не женский, прямой нос, близорукие глаза, глядевшие из-под шапки кудрявых, светлых волос. Роковая, едва заметная чувственность таилась в уголках губ.
Скрипачка уступала роялю, надеясь сговориться с ним и выразить себя, подправляя ноты, доверенные воображению тщедушного, лысоватого незнакомца в очках, сидевшего рядом с неприятной женщиной. Но ни рояль, ни незнакомец, глядевший на ее бедра, ничего не могли услышать, и в конце концов она припала к струнам, подалась вперед (взлететь ей мешали бедра, которые Диас Грей, в своей одержимости и холодной муке, наделял тайной похотью), выдвинула вперед подбородок и без труда перекрыла мнимого партнера, чтобы решительно и дерзко выразить свою страсть. Медленно летая над полным музыки залом, она преисполнилась презрения к тому, слышит ли ее и понимает даже она сама, знавшая страсть назубок, но теперь не знавшая; она, парящая от стены к стене, дарящая звуки, изливающая душу.
Диас Грей представил себе те сбивчивые ноты, которые издал бы смущенный, побежденный рояль. Глаза его увлажнились (она повторяла: «Я вижу хотя бы во сне лицо неизведанного»), он был растроган твердостью и радостью скрипки, доверием, силой, таящейся в музыкальной фразе и открывающейся тогда, когда эта фраза отзвучала, смутными силуэтами скорбящих и пятнами цветов на могиле, о которых теперь хотелось думать.
Скрипачка завершила полет двумя короткими криками и снова стояла перед пришельцами, сдвинув ноги, склонив голову, куда-то спрятав бедра.
— Спасибо, — просто сказала она. — Вторая часть нежнее, — она хотела сказать «кротче». — Наверное, она гораздо красивее, — она хотела сказать «печальней». — А вот и папа. Простите, что так вас развлекала.
Мистер Глейсон в легком широком пиджаке, надетом на сорочку, прищурил голубые глаза. Лишь они и блестели на его лице; лишь с них он смыл и послеполуденный сон, и угрюмость едва проснувшегося человека. Он сказал, что несчастный беглец уехал вчера в Ла-Сьерру к какому-то епископу. То ли родственник, то ли у беглеца рекомендательное письмо к нему. Точно мистер Глейсон не знал.
Пока его дочери шушукались по-английски в сени рояля, он пристально и печально оглядел комнату, словно прикидывая, сильно ли повредила музыка, или высматривал в воздухе следы неверных нот. Глядя на задернутые шторы, он представил себе подробности и смысл сухого, выжженного пейзажа.