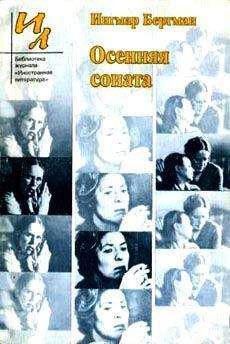Шарль Левински - Геррон
Рано или поздно я оседал в одной из закусочных, где не только подавали гороховый суп и пиво и — если повезет — бесплатные берлинские булочки, но где была и какая-нибудь разделочная доска вместо сцены, на которой жутко самонадеянные люди декламировали жутко самонадеянные стихи. Чаще всего я бывал в „Кюка“ на Будапештер-штрассе. Там потом и началось с актерством.
Пять марок. Таков был гонорар за выступление в арт-кафе. Для всех одна и та же сумма, торговаться не приходилось. Расплата сразу после представления. Если после своих текстов не мог унять дрожь, Рези Лангер ставила на стойку пиво. Кладя рядом сверточек. Пять монеток по марке, аккуратно завернутые в газетную бумагу. Как грошики, которые мама иногда бросала из окна кухни бродячему певцу, поющему на заднем дворе с особым чувством. Кладя в карман свой первый сверточек — сознательно небрежно, как будто дело вообще не в деньгах, — я твердо решил для себя, что сберегу хотя бы одну из монеток. Как память о моем первом гонораре. Но уже через пару дней все они, вместе с государственным орлом и венцом из дубовой листвы, были обращены в сардельки и гуляшный суп.
Позднее, на „Дикой сцене“, в договорах уже не стояли суммы. Во время инфляции это потеряло смысл. Гонорар исчислялся по билетам. Я, как начинающий, имел право на полтора билета в партере. Сколько бы они ни стоили в тот вечер, мне их выплачивали. Впечатляющие суммы. На бумаге. Только истратить их нужно было до того, как на следующий день в двенадцать выходил новый индекс и гонорар переставал что-либо стоить.
— Другие страны изображают на банкнотах своих королей, — сказал Отто. — А мы печатаем министров. Сплошные нули.
Когда я потом стал звездой, одним из самых высокооплачиваемых на УФА — не совсем так, как Фрич или Альберс, но все же так, что мог позволить себе все, — тут деньги для меня опять перестали что-то стоить. Потому что у меня не было времени их потратить. Они так и лежали у меня на счете. Потом их конфисковали.
Тем не менее в Париже, где большинство беженцев доходили до комнаты в плохонькой гостинице, мы могли позволить себе собственную квартиру. В Амстердаме потом на это уже не хватало.
Деньги — странная вещь. Вот было триста гульденов, которые надо было предъявлять в Иммиграционной службе, продлевая разрешение на пребывание. Чтобы подтвердить, что ты достаточно состоятелен — настолько, что не станешь бременем для голландского государства. Триста было у нас на всех. Предъявишь — и передаешь следующему, а он предъявляет их от себя час спустя. Какое чудесное умножение денег! Я уверен, чиновники разгадали этот трюк, но решили не докапываться. Потому что хотели нам помочь. Или не перегружать себя лишними усилиями.
Не важно.
Позднее деньги стали нам вообще не нужны. В лагере царит коммунизм. Ни у кого ничего нет, и это делится по-братски. В Терезине это еще сложнее. Тут у каждого теоретически есть свой счет. С которого он, естественно, ничего не может снять. Для моего фильма — моего? — мы должны построить маскировочный банк и сделать вид, что тут в самом деле есть деньги и на них можно что-то купить. Так придумал Рам. Почему бы и нет? Пачки банкнот, которые Отто выкладывает на игровой стол для сцены в казино, тоже не настоящие.
Как и Ольгино наследство, когда умер ее отец. Умер в своей постели. Ольга происходит из более счастливой семьи, чем я. Когда новость дошла в Голландию, деньги были уже давно украдены. Строго легальным способом, за этим в Германии следят. В своем неисправимом оптимизме Ольга так и не прекращала попыток вернуть себе семейные сбережения. Я до сих пор помню сумму: девять тысяч шестьсот сорок восемь рейхсмарок. И 98 пфеннигов. Конфискованы в депозитной кассе Фишмаркт. Все заявления, которые она написала и которые были написаны по ее распоряжению. Адвокатом, которому больше нельзя было называться адвокатом, а только консультантом. Поскольку он был жидок, его обрезали вторично. Отщипнули у него титул.
Она до последнего надеялась, что ей вернут хотя бы часть наследства. Не хотела верить, что бандиты остаются бандитами и тогда, когда вместо пистолетов пускают в ход номера документов. Когда вместо „Руки вверх!“ они говорят: „Одиннадцатое распоряжение к гражданскому закону Рейха“. Девять тысяч шестьсот сорок восемь рейхсмарок, 98 пфеннигов. За эти деньги мне пришлось бы выступить в „Кюка“ почти две тысячи раз.
Когда я еще давал интервью — вместо того чтобы при каждом вопросе вытягиваться в струнку и рявкать: „Так точно!“ — меня всякий раз обязательно спрашивали, почему я стал актером. Я тогда отделывался общими фразами, которых от меня ждали: мол, „очарование театра“ или „страсть влезть в чужую шкуру“. Честный ответ звучал бы так: „Я стал актером, потому что один дилетант наделал в штаны“. Только это нельзя было диктовать репортеру в блокнот.
Но было именно так.
Часов в 11 вечера я в очередной раз причалил к „Кюка“. Должно быть, в понедельник, потому что у новичка было его первое выступление. Уже не помню, как его звали. Пожалуй, не то имя, какое стоило запомнить. Впоследствии я никогда больше о нем не слышал. Рези Лангер всегда на широкую ногу заявляла свои вечера молодого поколения как гастроли, но каждый знал: вот опять кто-то выставляет себя на посмешище за пять марок. Тем не менее я несколько лет таскал в своем бумажнике маленькое объявление с „Гастролями Курта Герсона“. Пока тонкая газетная бумага не начала крошиться. Мое суеверие так же мало помогло мне в жизни, как в жизни других их вера.
Сцена была крошечная и делалась еще меньше из-за того, что постоянные посетители повадились ставить на нее свои стаканы. У Рези пили пиво. Кто заказывал вино, делал это на свой страх и риск. Занавеса не было. И кулис, из-за которых можно выйти, не было тоже. Чья наступала очередь, тот вставал на стул и оттуда — на подиум. Когда нужно было снова спускаться, стул, как правило, был уже занят, и ты смотрел представление дальше оттуда, где стоял. Нет, не государственный театр, по определению.
Некоторые держались на сцене неловко, но зрителям все равно нравились. Дилетантизм тоже порой может быть милым. У гастролера того вечера не было ни тени этого наивного шарма. Он был длинный и тощий — фигура приблизительно как у меня до войны. Конечности будто привинчены задом наперед, весь такой растерянный. Изгибался всем телом и заламывал руки. Этакий д-р Розенблюм при безнадежном диагнозе. Но вместе с тем демонстрировал жуткое превосходство, хотел показать обывателям в публике что почем. Только вот обыватели здесь не сидели. Где угодно, только не в „Кюка“.
— Не выйдет так часто зевать, сколько он хочет нас заинтересовать, — так Отто сказал об одном актере, который на студии изображал гения вместо того, чтобы просто играть свою роль.
Молодой человек на разделочной доске хотел доказать всему миру, какой он модерновый. Декламировал стихи, которые не означали ничего. Что-то дадаистское, как Рези любила с тех пор, как побыла заодно с Хуго Баллем. Трубил своим фальцетом что-то вроде „шампа вулла вусса!“. Революционный гимназист, который хочет позлить учителей. Надеялся, что публика возмутится, и он потом сможет презирать ее за это.
Но никто не возмутился. Никто даже не потрудился освистать его. Никаких выкриков. Люди попросту начали беседовать между собой. Это, должно быть, совершенно выбило его из колеи. Он приступил к следующему стихотворению, опять такому же дадаистскому упражнению на произношение, для которого у него не хватило голоса, и уже после первых слов он не знал, как продолжить. Завис как колокольчик. Даже не догадался сымпровизировать, чего никто бы и не заметил при таком-то тексте. Только все сильнее заламывал руки в своем отчаянии. Как будто хотел силой выдоить из себя нужный текст.
И тут из его брючины побежал желтый ручеек. Не думаю, что кто-нибудь, кроме меня, заметил лужицу около его башмака. А если и заметил, то принял ее за пиво. Но то было не пиво.
Он сделал крошечный шажок вперед к рампе, в „Кюка“ это был не слишком длинный путь, дальше шла пустота. И упал со сцены, что принесло ему единственные аплодисменты за все его выступление. Первый ряд его поймал, и Рези его утешила. Выставила ему пиво и положила рядом сверточек с пятью марками.
Парень провалился так, как только можно провалиться. Но он набрался мужества сделать попытку. Если он смог, почему не смогу и я?
В тот же вечер я подошел к Рези и попросил ее включить меня в программу на следующий понедельник. Она кивнула, как будто уже давно ожидала этого, и спросила:
— И что ты хочешь прочитать?
Я и понятия не имел.
Теперь мне предстояло выступление, о нем даже было объявлено в газете, но у моей сценической страсти отсутствовал объект. Я не имел репертуара. Выступить в арт-кафе с „Парнишкой из Портокассе“ я не мог.