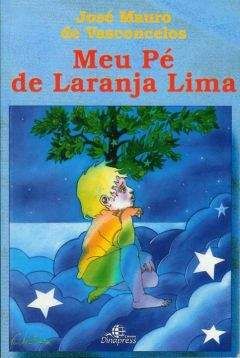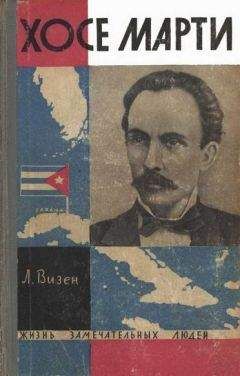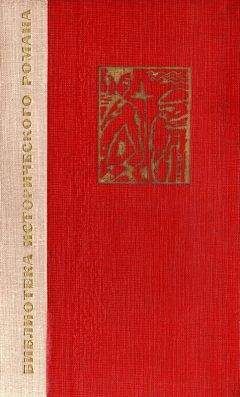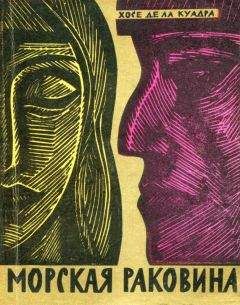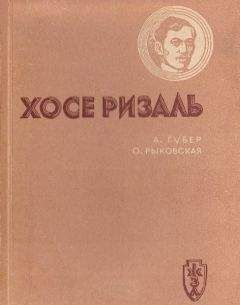Хосе Лима - Зачарованная величина
Те же, кто расписался в своем тяготении к теологической врагине и столько раз осмеянной неприязни к плавучести вдохновенной голотурии, рано или поздно уравнивают божество со свойством или формой, достигаемой материей в ее развитии. У Лукреция свойства материи приравниваются в итоге к гомеровым богам: во фразах, где он пытается образно передать различия между частицами в порядке их нового явления, они предстают восточными божествами с множеством рук и лиц, отраженных в многограннике стихотворения. В поэзии, по самому смыслу снимающей противоположности, невозможно обойтись без эквивалентов, без вариантов того или иного при уподоблении пауз и откликов. Эхо, роса, рассеяние уподоблены в мире Лукреция лучезарной ясности являющейся Минервы, белизне мантии богини-заступницы или стыдливых дев. Эманации же, пар, сгущения, вихри — гневной хмурости Геры или архангелам с мечами. Читая у него о неподвижном белом пятне, тут же представляешь себе изваяние Дианы Эфесской в эпоху, когда через стоиков начинают проникать и распространяться восточные культы, или седалище Брахмы — лотос, произрастающий из пупа бога Вишну. Если речь идет о началах, дающих о себе знать во сне, они уподобляются обезглавливанию мечом Шивы{308}, пересекающего три мира, чтобы искупить свою вину в Бенаресе, где из его рук падает голова Брахмы. Порой божки у Лукреция сбиваются в кучу: например, когда он говорит о быстролетных частицах, похожих на диски, несомые дуновением круглощекого Зефира над челом Гкацинта, в то время как Аполлон, при всей быстроте своих лучей, не может, творя поэтическое правосудие, вмешаться. Таков жестокий мир изменчивых богов — от прародительницы Венеры до Орка{309} с его ледяными ключами, где божества Европы и Азии могут избирать либо превозносить противоборствующий случай и лучистые испарения частиц, дабы достичь пресуществленных символов или коснуться значащей материи, как в столь любимых Лукрецием сражениях, когда воины из меди сменяются воинами из железа, которые до поры таятся и вдруг выпрыгивают из-за качающихся сосен, погруженных в полночный мрак.
Индивидуализм XIX века и его позднейший кризис у Ницше{310} подточили Грецию Диониса, ее хмель, непосредственное восприятие и созидательную мощь. Спросим себя: было ли это так уж неотвратимо? Вот перед нами греческая культура, обретшая точные пропорции в мифах, в ионийской физике{311} четырех стихий, в статическом понятии единства{312} и в шутках мегарцев{313}, таких непохожих на неудержимого Гераклита. Был ли необходим резкий отказ, разрыв, открывшийся смертельной раной зиждителя Диониса? Ясно, что дионисийский миф был реакцией на скульптурную Сократову Грецию, созданную XVIII веком. Канова{314} убаюкивает в протяженности мрамора мадам Рекамье{315}, увековечивая, наравне с полными приключений романтическими прорывами в эпоху мадам де Сталь{316}, и ее стремление бежать от приглушенной софистами Греции к дроби козьих копытцев и увитым виноградными лозами рогам. Не Вольтер ли простодушно принял собственный, присланный ему Фридрихом Великим{317} бюст за изображение Сократа и благодарил высочайшего покровителя, вместе с которым потом посмеялся над ошибкой, хотя вышел из себя, когда Фридрих встал на защиту грамматических оплошностей Людовика XIV? Но миф о Дионисе куда важнее для египетской культуры, чем для греческой. Сходная с испанской брасой мера, которую египтяне называли оргией, отсылает ко дню накануне прибытия в Египет греческих трирем, когда брошенный в воду лот вернулся с илом, измеренным в оргиях Для илистой, живущей повторением, диоритовой, единообразной египетской культуры проникновение Дионисова лота и оргия как мера исследования морского дна стали решающим фактором обновления. Геродот с убежденностью утверждал, будто Дионисовы конные скачки в Греции начались с Мелампа{318}. Выражение «циклопическая медлительность», которым Ницше характеризует греков эпохи мифов, тоже окунает их в ил, материнское лоно произрастания, вековую недвижную дрему Египта. Но, рискуя разойтись с одним из величайших европейских умов последнего столетия, я все же не могу не указать на ошибку Ницше, видевшего в Дионисе порождение Фракии, соотнося его с учением орфиков, а не с Египтом Мендеса{319}. У его египетских истоков — праздник козопасов, на котором костер привала требовал в жертву таких неспешных животных, как свинья; у конных же скачек, укореняющихся в городе, — иные, карнавальные истоки. Но если освободиться от опьяняющего капиталистического индивидуализма, от этого обожествления исключительности, от этой сумрачной энергии, изливающейся в невозвратном миге и опасном приключении, то можно прийти к иному — священному — опьянению. Отправной точкой для греков был не миф о Дионисе, а порядок безмерности, hybris, которого грек достигал в поэзии, соединяя высшую реальность с imago богов и героев, преступающих пределы дозволенного. Для первобытного грека colossos[70] означало не пространственную величину, а образное воплощение: крохотная кукла могла быть колоссальной, если достигала воплощенности, торжествуя над бесформенным. Речь о высшем порядке безмерности, новом творческом упорядочении мира людей и богов. Гесиод и Гомер, можем мы сегодня сказать, не подражали обстоятельствам, а преображали их, даруя богам новые имена. Несчастный сын нереиды, один из ропщущих потомков Прометея, Ахиллес должен был, как позднее — Эвфорион{320}, из-за своего hybris, из-за безмерности своего происхождения умереть молодым, преследуя злобное созвездие Большого Пса, тогда как элеаты укоротили его быстрый шаг до того, что он не смог догнать черепаху… Язвительный ум и таинственная сметливость греков мстили за себя, создавая неповоротливых богов. Когда Фетида в «Илиаде» молит за Ахилла, Зевс Кронид требует, чтобы она удалилась, а то ее заметит Гера, молящая, в свою очередь, за троянцев: он-де согласен и сделает все возможное, лишь бы она ушла, поскольку Гера вот-вот окажется здесь, а с ней враждовать не подобает, и он, Зевс, может себе очень повредить, если его застанут с Фетидой. У вооруженного разумом афинского promachos[71]{321}, его холодный, горделивый щит как бы заговорщицки перекликается с украшениями на щите Ахилла. Изначально безмерные, поскольку принадлежат к порядку поэзии, доспехи обмениваются друг с другом символами, и живость отсветов в глазах совоокой богини уравновешивается ковкой Гефеста на Ахилловом щите, где гимнасты и девы самозабвенно предаются общему маршу или танцу. Когда возбужденный схваткой Диомед пронзает копьем зорецветную руку кипрской богини{322}, на землю каплет амброзия. Греки искали бессмертия в амброзии и нектаре богов, но своим поэтическим упорядочением безмерного добились того, что вдыхали чудесную влагу, попав копьем в руку богини, стремящейся, напротив, стать смертной, узнанной, исполнившейся. Божество может даровать поэзии высшее знание, наделив ее движущей силой протяженности и длительности, когда через заклинаемый в поэзии видимый мир смертные ищут приближения к неведомой улыбке богов.
Романская живопись{323}Золотая или серебряная, любая монета времен Людовика Святого{324} — короля всех французов, как любил подписываться этот августейший монарх, — способна передать мощь и сложность художественных проявлений Средневековья. Ее рисунок отсылает к арабскому образцу, как тот, в свою очередь, усвоил пропорции сасанидской{325} драхмы. И вот мы уже среди огнепоклонников{326}, участников митраистских{327} культов, почитателей бога Ормузда{328}, чей дух, заняв престол одного из наиболее католических, святых и французских венценосцев, которые когда-либо существовали, неотрывен теперь от самых вершин европейского нумизматического гения. Хотя, если говорить точно, романское искусство следует все-таки ограничить Бургундией, землями южнее Луары, Нормандией, Северной Италией и долиной Рейна. А по времени — монументами XI-первой половины XII века, для некоторых регионов — чуть позднее. Само понятие «романское искусство», которым в прошлом веке начали обозначать стили, сложившиеся под воздействием Восточной Римской империи, а также под влиянием Византии, продолжает вызывать живую полемику. Его практически перечеркнул Куражо{329}, и тем не менее этот термин сохраняет свою непоколебимость.
Романское искусство явилось само собой — из привычки умирать в окружении крестьян и причта, на глазах у местного пекаря, ткача, флейтщика, мастера органных дел; из союза священнослужителей и земледельцев. А не так, как искусство Византии, рожденное из внешнего догматического порядка, из союза светских князей и церковных иерархов. На самой крутизне скалы — бесхитростное, но как будто намагниченное явление храмовой базилики, созывающей деревню к обедне и собеседованию клира вокруг евангельских символов. А на многолюдном холме — уже не бесхитростная базилика, отвесно взмывшая над скалами. Это боковые нефы, похожие на разросшийся греческий крест, раскрывают розетки вокруг центральной кафедры собора. И он, настороже с князьями и заодно с пахарями, утверждается во всем великолепии своей мощи, наяву представляя, даже в плясках смерти, иерархию небесного Иерусалима — от единого и его посредников до трона досточтимых старцев и грозди ангелов, рождающих музыку, вознося древо созвездий. Перед нами — воинствующая Церковь XI века, не ведающая ни утех, ни расслабленности, не запятнанная ни хитроумным коварством, ни сговором с князьями. Но помнящая о неусыпности отмеренных часов, монашеском ордене в образе нищенствующих Христа ради и обычае святого Франциска приправлять всякое блюдо щепотью пепла.