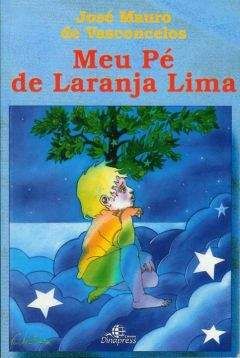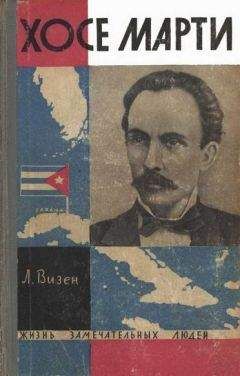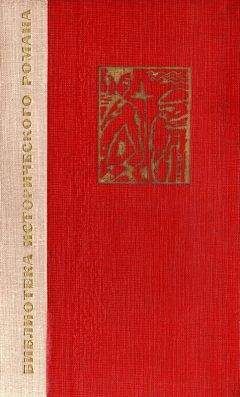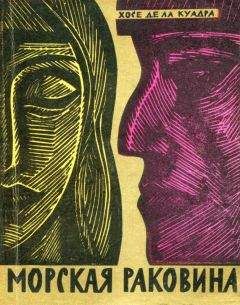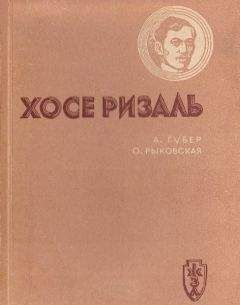Хосе Лима - Зачарованная величина

Обзор книги Хосе Лима - Зачарованная величина
Хосе Лесама Лима
Зачарованная величина: Избранное
Лесама Лима: образ и возможность
«Читать Лесаму — труд тяжелый и как мало что другое выводящий читателя из себя», — признался младший друг, корреспондент, внимательный читатель его поэзии и прозы Хулио Кортасар. Это не помешало Кортасару в конце 1960-х годов без колебаний назвать Хосе Лесама Лиму автором уровня уже прославленных тогда Хорхе Луиса Борхеса и Октавио Паса (прижизненная печатная судьба кубинского мастера у него на родине была к этому времени фактически завершена, а после 1971 года, отмеченного позорным для властей «делом» поэта и правозащитника Эберто Падильи, нелояльный писатель и вовсе оказался под запретом со стороны официальных инстанций). И все же о сложностях при чтении Лесамы, единодушно признавая его масштаб, настойчиво говорили — и писали ему самому — даже наиболее искушенные и благожелательные читатели. Автор отвечал одно: «Только трудное дает силу».
Российской публике в этой ситуации, пожалуй, еще сложней: мало кто у нас в стране знает или верит, будто на Кубе есть, да и вообще может быть, замечательная словесность, по привычке отождествляя культуру и политику (между тем почти все лучшие кубинские авторы второй половины XX века открыто порвали с кастристским режимом, а потому на протяжении позднесоветских десятилетий были по-русски не публикуемы и даже не упоминаемы). Кроме того, у мысли и слова Лесамы Лимы — очень длинная и достаточно запутанная родословная, вне которой, как писал тот же Кортасар, рискуешь «утерять путеводную нить, сбиться, понять плохо или, еще хуже, понять наполовину», а эта родословная в необходимых подробностях известна, опять-таки, скорей всего немногим. Кое-какие вехи тут подскажет уже оглавление нынешней книги, переполненное, как легко видеть, именами собственными. Но и к ним стоит — хотя бы лапидарным перечнем — добавить Платона и Аристотеля, орфиков и гностиков, средневековую схоластику и агиографию, европейское и колониальное барокко, Данте и Вико, Монтеня и Декарта, Спинозу и Гете, Честертона, Джойса и Элиота, Рильке и Музиля, Пруста, Сен-Жона Перса и Леона Блуа.
Не то чтобы все перечисленные были читающим у нас в стране начисто не известны. Дело в другом: они — за редчайшими исключениями — слабо прожиты, не слишком усвоены пишущими, практически не вошли в их личный опыт. Между тем, в затворнической жизни Лесамы («Я одиночка», — настойчиво повторял он) сочинения названных авторов — настольные и подручные. Их многостраничными конспектами и многочисленными тезисами по их поводу и им вдогонку полны дневники и записные тетрадки Лесамы[1]. Больше того, для него это не просто затверженный урок или монетка в копилку эрудита, а живое вещество, со страстью вовлекаемое в собственное бесперебойное сочинительство. Прочитанное и развитое собственной мыслью — его жизнь, эти знания — его опыт, они у него, как и сам он, всегда в работе («Он писал так же непрерывно, как дышал», — заметила о старинном друге испанский философ-изгнанник Мария Самбрано). Уникальная образная изобретательность Лесамы, подавляющая мощь его метафорического синтеза, неимоверный смыслотворческий напор и зашкаливающая температура переплавляли — не складывали, не копили, а именно переплавляли — любое сырье, самый экзотический или, напротив, ничем не примечательный исходный материал. Тем же, кто спрашивал автора о влияниях на него, он отвечал: «Воздействия — это не причины, которые вызывают следствия, а следствия, которые озаряют причины».
2Подобное переворачивание местами (причин, следствий и др.) — не единичный случай, таков рабочий метод нашего автора. Как поэт, полностью остающийся им и в прозе, Лесама ничего не принимал готовым. Он не мирился с инерцией и энтропией ни в чем, буквально всё и в секунду неузнаваемо преображая; его мгновенные импровизации на темы мировой истории и культуры от первобытных времен до новостей во вчерашней газете пересказывались потом благодарными слушателями и сохранились в памяти избранных друзей. Поэт Синтио Витьер вспоминал: «Его речь — будь то в стихах или в прозе — никогда не начиналась с того же уровня, что у других. Она никогда не следовала из окружающего, а всегда жила лишь силой разрыва или, лучше сказать, выброса, как никогда, вопреки внешней видимости, не ограничивалась она и полемическим противостоянием… Время для Лесамы Лимы было материей не исторической и не антиисторической, но, в буквальном смысле, баснословной».
Материей лесамианской работы, рискну добавить, были сами эти изначальные, доопытные условия человеческого существования — пространство и время. Чувствуя себя на дальней границе культурной ойкумены, он решил противопоставить изоляционистскому бахвальству и уязвленному провинциализму многих своих соотечественников и современников утопическо-мифологическое понимание кубинской культуры как напластования, палимпсеста. А сознавая, что он и его считанные соратники — гости позднего часа, попытался отделить время, ставшее прошлым, от времени, прошлым не становящегося, разграничив тем самым область истории и царство воображения. «Поэзия видит последовательность как единовременность», — записал Лесама в дневнике в 1945 году. Он стремился и вовлекал других, говоря его собственными словами, в «гностические пространства» или «регионы возможного» (одно из ключевых слов нашего автора) и в «эпохи воображения», «творческие эры». Такими выступали у него Япония и Китай, Индия и Египет, исламский мир, средневековая и возрожденческая Европа, барокко и рококо. Такими представали до- и постколумбовы просторы Америки. Включая, понятно — больше того, помещая в самый их центр — Кубу, увиденную, а значит, преображенную зрением поэта.
Чилийскому романисту Хосе Эдвардсу мир Лесамы увиделся «барочным лабиринтом». Как известно, лабиринт — в чем, видимо, и заключается одна из причин особой притягательности этого древнего и универсального культового символа — соединяет в себе весенний танец с погребальным обрядом, путь к смерти с возрождением к жизни, а образ мира с образом тела. В лесамианском познании всем существом, в его творческой «корпографии», письме всем телом, есть своя, нездешняя и не оставляющая читателя в привычном покое энергия, своя властно диктующая читательскому организму пластика, втягивающий в себя мысль читателя ритм (еще одно ключевое для Лесамы слово). Эти па некоего ритуального продвижения и возврата, почти плясовых остановок и кружений, мгновенного просвета надежды и внезапного потрясения от уже виденного прежде тупика организуют материю его стихов. Перед нами, вокруг нас, в нас самих разворачивается мир празднества. Но смерть при этом не изгнана из утопической вселенной Лесамы, напротив, она для него — основание нового, иного рождения, преображения. В письме к Марии Самбрано 1974 года, откликаясь на известие о кончине ее любимой сестры и вспоминая свою умершую мать, он писал, — «Смерть заставляет нас наново зачинать всех. Эта таящаяся в смерти бесконечная возможность, стоит сделать ее видимой, перекрывает гибельное пространство смерти. Вневременность, иными словами, эдемово, райское начало дает нам силы представлять жизнь как бесконечную возможность, рождающуюся из смерти».
Вступая в тексты Лесамы — прежде всего стихотворные, но и в его движимые теми же силами эссе, новеллы, романы, — нужно почувствовать на себе эти разнородные, едва ли не физические по ощутимости силы вместе с бесконечно разворачивающейся метафорой-фразой, с брезжащим, приоткрывающимся и снова прячущимся смыслом, а иначе, поврозь, они многократно проигрывают. Кажется, глубже других их драматическую мощь пережил и точнее передал Октавио Пас, вообще крайне чувствительный к подобным энергетическим, пневматическим, телесным первоосновам голоса и письма. Сказанное им больше четырех десятилетий назад о романе «Paradiso»[2] в письме его автору вполне применимо ко всему своду созданного Лесамой Лимой — к той труднообозримой «вещи в работе», которая день за днем, в каждом новом акте восприятия, встает перед читателями кубинского мастера: «Перед нами <…> целый мир различных архитектур в непрерывных метаморфозах и, вместе с тем, мир знаков — отзвуков, складывающихся в значения, возникающие и распадающиеся архипелаги смысла, — медленный, головокружительный мир, вращающийся вокруг недостижимой точки, которая существовала еще до создания и разрушения речи, неподвижной точки, в которой — средоточие и завязь языка».
Все материально представленное, зримое в яви, осязаемое во плоти бесконечно важно для лесамианского мироустройства. Вместе с тем, отмечу особое качество изображаемого Лесамой. Наделенное телесностью у него — это не просто увиденное потому, что попалось на глаза и соответствует разрешающим способностям хрусталика; видимое — это усилием воображения открытое, специально показанное, мастером явленное. Говоря короче, поэтическая действительность разворачивается для Лесамы как бы в грезящемся представлении, церемонии — всевозможных шествиях, пред стояниях, восседаньях, круженьях.