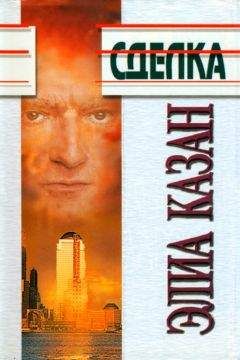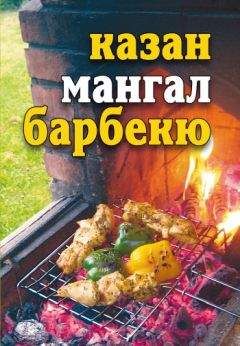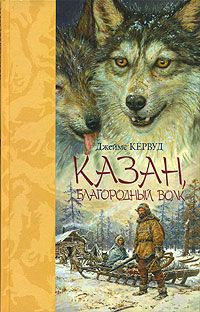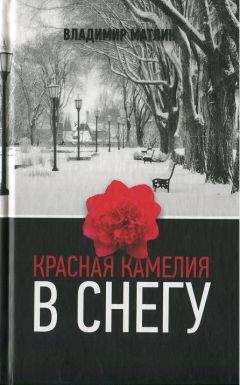Яков Арсенов - 76-Т3
Лето кончалось. Деревья начинали задумываться. Зеленые листы, уловив в ветках осеннюю ветхость, слетали на землю сами, не дожидаясь ветра.
Отработав последний день, Решетнев устремился к Ирине. Он рвался к ней через безбилетье, забитые пассажирами вокзалы, рвался любыми окружными путями, ломаными маршрутами, лишь бы не сидеть на месте.
Наконец, последний перегон. Поезд отчетливо выводит каждый лязг. Невозможно избавиться от ощущения, будто до Ирины всегда остается половина отведенных на разлуку месяцев, дней, минут. Часть, которая преодолена и оставлена позади, уменьшается до необъяснимого тождества с оставшейся до встречи. И нет сил решить это равенство.
Утро подкатывает к перрону одновременно с составом. Дыхание поднимается в самую верхнюю точку. Сердце сжимается, как в коллапсе. Последний крик тормозов охватывает мозг, как потрясение. Решетнев не думал, какие мысли встретят его у края платформы. Он знал одно: у киоска мелькнет ее платье, и от разлуки останутся осколки. Каскадное, словно в рассрочку, ожидание встречи вытолкнуло его из равновесия.
У киоска никого не было. Конечно, и телеграмму она тоже не получила. Решетнев направился к автомату. Короткие гудки повторились и через десять минут. Они тиранили ухо.
Такси несло его к окраине. Мелькнул киоск, в котором были куплены апельсины, фонтан, мимо которого шагала по лужам девочка со скрипкой. Такси обогнуло фонтан на треть окружности и по касательной ушло на последнюю прямую. Пронесшийся навстречу «Рафик» обдал бедой.
Словно здесь никогда не было домика. Паспорт объекта, приколоченный к забору, уверял, что через два года в этой бане смогут мыться одновременно двести человек.
Подруга назвала ему новый адрес. И опять, как зимой, он стоял у двери и жал на кнопку, не зная, как повести себя дальше. Чувство возродилось в нем на другом уровне, в ином качестве. Дверь отворилась без всякого расчета на него.
— Ты? Здравствуй! — удивилась Ирина. — Вот так неожиданность! Проходи, знакомься. Андрей. Он помогает мне по квартире.
Первой в голове проскочила как раз эта мысль — о другом. Она вскинулась, как рука, пытающаяся отвести удар. Косвенность ощутилась мгновенно. По повадке он определил, что маэстро из разряда тех, кто всегда точно знает, когда в квартире поплывут обои, обвалится штукатурка или от ржавых капель начнет цвести унитаз. Берут они не дорого, потому что всегда то ли соседи, то ли ветераны ЖКО.
— Как тут здорово! Я рад за тебя!
— Спасибо! Но ведь я говорила тебе об этом тогда, а ты мне не верил.
— О чем ты?
— Нет-нет, я так. Мне было трудно забывать; Я не предполагала, что такое может вообще когда-нибудь наступить. Вернее, произойти.
— Но стоит ли жалеть об этом? Рано или поздно — не все ли равно.
— Жалеть? Это мало, слабо. Убиваться — вот слово.
— Ты же сама с нетерпением ждала, когда все кончится. Ведь так? Ты быстро привыкнешь.
— Я не умею привыкать.
— Скажи, зачем тебе было нужно такое молчание? Я и без того знаю, как ты умеешь держать паузу.
— Молчание? Я выбрала время из двух этих лекарств. Которые излечивают все.
Решетнев почувствовал, что в ее слова нужно вникать. Как будто она одна продолжала их отношения по его просьбе. И за это время он отстал от нее в понимании с полуслова. Он не находил, как соединить свою долю разлуки с ее частью. И вырвалось:
— Ирина, еще один день, и я бы…
— Ты знаешь, вот беда, мне кажется, я не все перенесла оттуда. Я пересмотрела каждый ящик, но так и не выяснила — что я забыла. Я отправилась т уд а, но там уже ничего не было.
— Разве можно убиваться по какой-то безделушке?!
— Хорошо, я не буду тебе говорить об этом. Но скорее всего — это не так. Я не могла ничего забыть, потому что грузили вещи чужие люди. Раз я не грузила, то и не могла забыть. Правда? — Она походила на ребенка, который во сне хватается за ссадины и смеется. Он обнял ее. Она не пошевелилась. Потом, словно от усталости, приникла. Не доверившись глазам и словам, они вспоминали себя памятью рук, губ.
— Постой, постой, о чем мы говорим? — отстранилась она. — Я не простила тебя тогда. Да, да, я помню точно — не простила. Ты бросил меня. Забыл. Я всю ночь писала стихи. Послушай.
Неклейкие части — кристаллики счастья.
Все может растаять, все может умчаться.
Глаза в уходящую тычутся спину,
И бьется снежинка, попав в паутину.
Я забыла тебе напомнить тогда, чтобы ты не упустил меня ни на грамм, ни на сколечко. Поэтому простить не смогла. Но ты все равно люби меня, потому что я еще буду. Я закружусь первым весенним ливнем и прольюсь, утоляя все жажды, сочась каждой клеткой.
— Молчи, молчи! Больше ничего не говори! Нам нельзя с тобой говорить об этом! Понимаешь, нельзя. Дерзость догадки ошеломила его. Она кивала головой и пыталась удержать слезы. Он успокаивал ее, гладил по волосам и не замечал, что то же самое творится и с его глазами. Перед ним раскинулся тот ромашковый луг, без конца и без края, где ему впервые стало страшно от этого. Ирина, вся летняя, опускала ресницы и подавала ему венок. Еще какое-то мгновение, и он, взявшись за руку, зашагал бы в ее мир, где память сама выбирает хозяина, где неправильный шаг ложится крест-накрест на каждую складку сознания.
— Но ведь я тебя успела не простить! — вскинула она заплаканное лицо и вытащила из стола дневник. — Вот, посмотри! — И зашелестела пустыми страницами. А потом вручила ему тетрадь, как последнее, самое веское доказательство.
Они успокоились, когда увидели, что в квартире никого нет и что прошло уже много времени, а за окнами полнеба в огне и сентябрь, желт и душераздирающ до безысходности.
— Я открою форточку. Она подошла к окну и встала рядом с ним.
— Как осени могло прийти в голову, что без сброшенных листьев мир станет просторней?
— Прости. Если не смогла для себя, прости для меня. Она согласилась глазами, закрыла и открыла их снова.
— Но вот дела, никогда не извлечь опыта. Сколько ни бейся. Всякая новая находка будет сама считать нас очередными найденышами и позволять мучительно тешиться собой. Я устала сегодня. Представь, я не спала с тех пор. Зато теперь знаю — почему. Я уже не умею ждать. Я не разучилась. Просто не хочу апельсинов, поскольку не знаю, что они такое.
Чтобы как-то возвращаться к реальности, он переводил взгляд на часы, разбросанный по полу инструмент, на кошку, сидевшую неподвижно, как копилка, Ирина была рядом, она была доступнее на десятки сгоревших июлей. Он снова находил ее глазами и понимал, что поцелуя не получится — она садится в такие позы, что до губ не дотянешься. Она далеко. Холоднее и дальше на десятки снегов. Она привыкла засыпать в кресле — последнее, о чем он подумал в ее новой квартире.
Он брел по улице, и ноги, преодолевая сокращенность мышц, на минуту выводили его из оцепенения. Тогда мысли обретали течение, близкое к равнинному. Он вспоминал осенний бал и Ирину у шведской стенки с кленовым листом в руке. Почему он не подошел к ней тогда? Может быть, все было бы по-иному. В жизни надо срываться.
День уходил, таял. Последние мгновения остывали на пустующих тротуарах. На цветные осенние образы ложились ночные, черно-белые. Все вокруг обнималось темнотой и бесконечной жаждой повторенья.
Он брел по мокрым улицам и затаптывал одинокие звезды в галактики, отстоящие на сотни световых лет. Он навязывал себя скамейкам и аллеям, ничего не помнящим. И не мог избавиться от мысли, что Ирина в нем неизлечима. Она будет затихать и воспаляться снова в маленькой замкнутости, имя которой произносит каждый сигнал наезжающих сзади машин, каждая капля дождя. Ему казалось, за ним кто-то идет. Босиком по снегу. Он оборачивался и не мог с достаточной уверенностью отнести это ни к прошлому, ни к будущему. Он принимался вспоминать, а получалось, что ждет, но стоило ему помечтать, как все тут же обращалось памятью.
Над городом и чуть поодаль вставали зори, похожие на правдивые рассказы о любви. Друзья, вернувшись из тайги вслед за ним, привезли несколько конвертов с пометкой: адресат выбыл. Даже письма, свершив слалом долгой дороги в два конца, вернулись на круги своя.
ЕСЛИ БЫ НЕ КАНТ…
Занянченный Нечерноземьем Артамонов хотел попасть на практику куда-нибудь в тундру. Для расширения кругозора его вместе с Пунтусом и Нынкиным оставили в Брянске и засунули на БМЗ.
— Естественным путем избегнуть цивилизации не удалось. Придется искусственно, — не сдался Артамонов. Чисто интеллектуальное лето. Ни капли никотина и алкоголя на эпителиальных тканях. Никаких случайных девочек. Только книги, театры, музеи.
— Если ты напряжешься в этом направлении, из тебя действительно выйдет толк, — поощрил его Пунтус.
— Причем, весь. Без остатка, — откорректировал плюсы интеллектуальной затеи Нынкин.