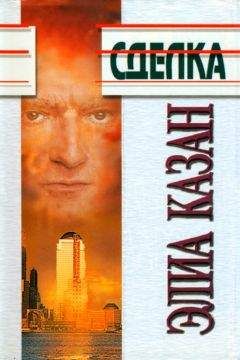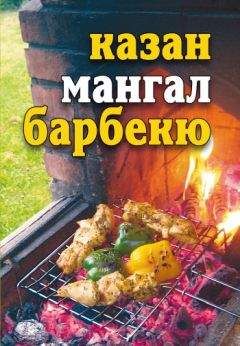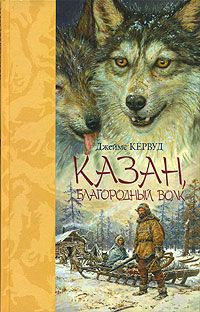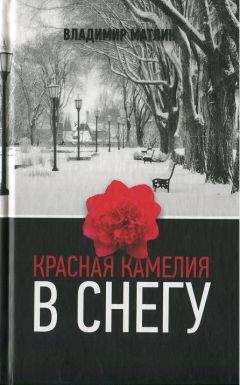Яков Арсенов - 76-Т3
— Ты пишешь стихи? — спросил Решетнев, чтобы затеять разговор на интересную ей тему.
— Кто их не писал. Хотя выражение это придумали розовощекие сорокалетние холостяки, никогда в жизни ничего не писавшие.
Казалось, у нее комплекс на этот разряд беспроблемных мужчин. Она всегда обвиняла их в пустоцветстве и эгоизме.
— Давно?
— Сравнительно. Но только в крайних случаях. Поэзия, она как полоса для спецмашин на автостраде. Для несчастий и бед. Неспроста критики веками просят не занимать ее попусту, без надобности.
— Ты не пыталась…
— Нет! — перебила она его. — Все равно их не напечатают. Слишком интимны, не хватает гражданственности. Решетнев вменил себе в обязанность прогуливаться с Ириной каждый день. Она потихоньку набиралась сил. Удивлялась всему, словно видела в первый раз. Это пугало Решетнева, не давало покоя. Как-то навстречу попалась девчушка, вся конопатая. Она шла вприпрыжку по отраженному в лужах небу и держала в руках скрипку, да так крепко и уверенно, что казалось, мир расцветет с ней буквально в несколько дней. Ирина заплакала, глядя ей вслед.
Радиус прогулок увеличивался. Забредали за город и наблюдали, как яблони, будто парусники в пене, бороздят притихшие сады. В воздухе закружился тополиный пух. Ожили на лугах пуговки ромашек. В ромашках Решетневу стало страшно. Ирина гадала: любит, не любит, и вдруг стала вспоминать первые дни знакомства. Она рассказывала истории, совершенно небывалые, но очень похожие на то, что было — мотивом, настроением, результатом. Казалось, она просто фантазирует на тему прошлого. Решетнев пытался противоречить зарубкам, на которых держалась ее память. Она начинала капризничать и говорила:
— Нет, это было не так. Неужели ты все забыл? Как же можно забыть такое! Я даже стихи написала тогда.
Как мы горели, милый мой! Январь
Уже давно отпепелил снегами.
А дни текут, проходят, как слова,
Которым никогда не стать стихами!
Решетнев посмотрел на себя ее глазами. Может, действительно, все было так, как говорит она? Может, это его, а не ее память выстроила события за призмой, которая, искажая частности, оставляет неизменным целое? И главным становится не то, с кем это было, а то, что это было вообще, на земле? С людьми без имен. Что, если так и нужно — брать дорогой момент жизни и запоминать его через другое, как запоминают телефонные номера, связывая их с более цепкими цифрами, с тем, что всплывет в памяти по первому зову?
Все равно было страшно. Хотя и походило на шутку, игру — было весело бросаться взапуски к какому-нибудь дню или вечеру, случаю и всякий раз приближаться с противоположных сторон, словно один прожил этот отрезок по времени, а другой — против. Если было весело, значит — не страшно, успокаивал себя Решетнев. Так не бывает, чтобы сразу и весело, и страшно.
В момент сессии загорелись две путевки в Михайловское. Известить об этом Решетнева сподобился Фельдман. Решетнев, выкупив путевки, считал себя самым счастливым, несмотря на три заваленных экзамена. Он знал мечту Ирины. Она обрадовалась, засуетилась, бросилась к этажерке и начала перебирать бумаги. С победным видом извлекла несколько листков. Это были пейзажные зарисовки Михайловского, подаренные художником. Ей почему-то было лень вспоминать, каким именно.
Выехали утром. Туристская группа, состоявшая из студентов и преподавателей, заспорила сразу, как тронулись. На свет стали проливаться такие небылицы о поэте, что гид — вертлявая девушка с копнообразной прической — была вынуждена вмешаться. Тщательно восстанавливая историческую правду, она то и дело затыкала любителей. Шум сопровождался потчеванием пирожками и передаванием термоса. Эпицентр разговора сместился к Ирине. Она свободно ориентировалась в девятнадцатом веке, говорила от души. Группа моментально влюбилась в нее. Хаотичное движение пирожков стало тяготеть к ней. Ирина, не замечая, держала в руках бутерброды, увлеченно делилась прочитанным и забывала передавать термос. Решетнев наблюдал за ней и улыбался. Большего счастья, чем видеть ее жизнерадостной, он не желал. На турбазу приехали под вечер. Наспех устроились в кемпингах и отправились побродить по окрестностям. Солнце упорно висело на краю неба, словно боясь, что, как только оно укроется за горизонт, по земле пойдут беспорядки. Приняв форму тягучей капли, оно имитировало падение вниз, оставаясь на месте. Подражая ему, багрянцем горели деревья. Все вокруг спешило отдаться осени.
— Трудно представить, — говорила Ирина, — что Пушкин касался руками этих валунов и подолгу стоял именно вот под теми деревьями. Мне всегда так хотелось пожить в его столетии.
— А ему, наверное, в нашем.
До усадьбы не дошли — стемнело. Солнце, найдя на кого положиться на земле, соскользнуло с небосвода. С низин потянуло холодом, на пригорки пополз туман. Утром Ирина с Решетневым отделились от группы. Решили осмотреть все обстоятельно, не спеша. Увлекаемая непоседливым гидом группа быстро скрылась из виду. Двое беглецов обогнули флигель и притихли на ступеньках, сбегающих к Сороти. На березе чирикала пичуга. Долго высматривали — на какой ветке она притаилась. Сзади проходили и проходили люди. Гиды, указывая на лестницу, твердили: «Вот здесь Пушкин спускался к реке…» Всплеск тишины, и снова очередная группа и сопровождающий, как по свежей ране «А вот здесь Пушкин…»
Дворник мел двор, рыбаки ловили рыбу, пацаны лазали по ветряку.
Потом был Святогорский монастырь. В складках каменных стен угадывалась несвойственная вечному печаль. В метре от могилы старухи продавали цветы. Вялые, с утра без воды. Турбаза долго не могла уснуть. В ресторане гремела музыка, тут и там бродили туристы, подъезжали автобусы, вспыхивали и умолкали шумные разговоры. Происходящее вокруг не укладывалось в понятие «пушкинское место».
— Упасть бы в траву и плакать, не вставая. Зачем здесь турбаза, зачем ресторан!? Танцы? Пусть здесь вечно будет тихо! Ведь здесь еще бродят тени, они материальны. Аллея Керн… теперь по ней запрещено ходить. И даже фотоаппараты здесь ни к чему. Все должно быть внутри. Пусть другие увеличивают тиражи, Пушкин будет спускаться к реке! Что такое время? Оно непостижимо, оно беспощадно и всепрощающе. Пусть постройки выстроены заново, все равно это было, было, было… Мне кажется, я буду вечно стоять на лестнице, а гиды через каждые пять минут будут внушать: «Вот здесь Пушкин, а вот здесь Пушкин…» И пусть метут двор, ловят рыбу, продают цветы в непристойной близости, спекулируя на нашей любви, все равно это было, было, было! И тысячи, миллионы людей… Одна лишь мысль может явиться здесь: все пройдет, и только вечно будут шуметь разметавшиеся по небу липы. И во веки веков будет звонить далекий колокол. На самой высокой ноте его позеленевшей меди однажды уйдем и мы…
— Уже поздно, — сказал Решетнев, боясь, как бы ее опять не вынесло на тяжелый монолог о себе. — Пора спать.
— И холодно, — поежилась она. — Идем.
Этой поездкой заботы Решетнева об Ирине закончились. Как только в тесноте города начал задыхаться липовый цвет, Решетнев уехал с друзьями в тайгу.
Были письма, понятные и непонятные. Он вспоминал, как она учила его чувствовать улыбку по телефону.
Он ожидал конца своей одиссеи с мукой. Торопился развеять миф разлуки и рисовал встречу. Вот как это будет. Ирина выбежит навстречу. Диалог, который встанет между ними, выберет роль рефлекторной реакции на движение губ, едва угадываемых на размытых от волнения пятнах лиц. Слова с неотданным смыслом будут скапливаться в воздухе и повисать на проходящих мимо людях. Каждый вопрос будет выслушиваться невнимательно, чтобы отвечать на него не думая, а тем временем находить друг в друге изменения, как бывает в журналах, где на двух изображениях предлагается отыскать заданное количество расхождений. Они будут стоять и ожидать друг от друга чего-то концентрированного, что за один прием выложит замерзающее в словах. Потом она спросит, любит ли он ее. Его речевой аппарат уже сейчас сложился в это жгущее гортань слово, которое станет ответом.
Вдруг письма прекратились. Как отрезало. Решетнев умело отыскивал десятки объяснений ее молчанию. Отъезд в санаторий, утеря адреса — да мало ли чего! Странно, писал он ей чем длиннее письмо, тем медленнее приходит ответ. А теперь и вовсе замолчала. Остается одно — телеграммы. Тогда ответы будут приходить моментально, да? «Припадаю с разбега к голубой жилке на правом запястье точка люблю точка целую точка подробности бандеролью точка». Надо менять систему переписки. Зачем писать ответ на письмо? Нужно просто писать всякий раз, когда появляется желание. Чтобы полученное письмо не обязывало держать ответ. В этом есть что-то конторское, не так ли? Ответа не последовало.
Лето кончалось. Деревья начинали задумываться. Зеленые листы, уловив в ветках осеннюю ветхость, слетали на землю сами, не дожидаясь ветра.