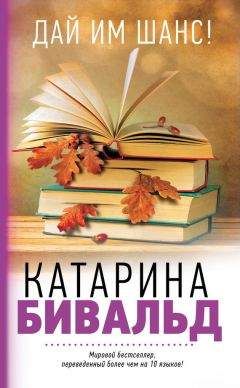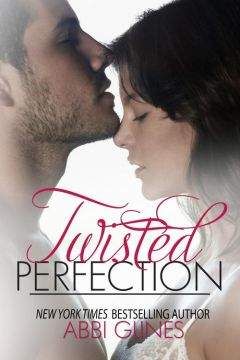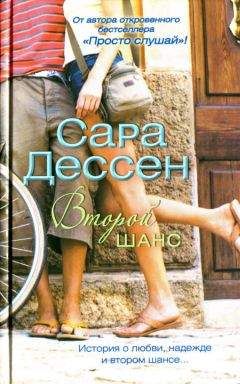Лола Лафон - Маленькая коммунистка, которая никогда не улыбалась
Из громкоговорителей церкви, зажатой между «Зарой» и «Бершкой», лился хорошо поставленный голос попа, утешая измученную ревом моторов улицу, внутри церкви золото икон, к которым все поочередно прикладывались, мягко мерцало в свете красных лампадок, старуха с тряпкой и бутылкой жидкости для мытья окон в руках протирала застекленное лицо Пресвятой Девы. Женщины в косынках раскладывали на столе приношения – сдобная булка, которую здесь называют козонак[66], крутые яйца и бутылки с маслом в пластиковых пакетах. Сумка с изображением Микки-Мауса была так набита подарками, что ручки порвались и теперь свешивались на лоб Христа.
Мужчины в летах, одетые как на торжественный вечер и до странности чопорные, стояли рядом с разложенным прямо на тротуаре товаром, у кого – томик Верлена на французском, у кого – сохранившиеся с семидесятых напольные весы или несколько батареек. Другие, превратив раскрытый багажник своей машины в прилавок, торговали фруктами, аккуратно уложенными в ящики, предлагали пучки душистого укропа, баклажаны, круглые красные перцы, туалетную бумагу, носки и гвозди.
Я направлялась к зданию, которое раньше было дворцом Чаушеску[67], мне казалось, что до него рукой подать, но чем дольше я шла, тем больше отдалялся дворец. Довольная своим наблюдением, я рассказывала об этом людям, с которыми встречалась, они пожимали плечами, такой опыт проделывали все… Здание непомерно огромное, почему бы его не разрушить, спрашивала я, но на меня смотрели сердито: все всё стараются забыть, вот потому у нас больше нет прошлого, говорили те, кто в детстве видел, как возводили этот дворец, хватит и того, что молодежь слышать не может, когда мы вспоминаем что-то хорошее!
Как-то вечером я заплутала, бродила по улицам без табличек, и мне было неспокойно, деревья тянулись ветками сквозь ограды, дети следили за мной, будто любопытные гномы. Стоило остановиться и развернуть план – ко мне подходили, предлагали помощь, на французском или на английском, часто завязывался долгий разговор с незнакомыми людьми. Я набралась опыта и уже заранее знала, что услышу: «несмотря на все остальное», раньше каждый имел работу и квартиру, безработных не было. В пустых прежде магазинах теперь есть все, но нет денег хоть что-то купить. Так какая система лучше? – задавали они вопрос, словно решали для себя горькое уравнение. Мне показывали на плакат с призывом собраться в память о революции 1989 года.
– Что же, они в восемьдесят девятом отдали жизнь за то, чтобы у нас было больше кока-колы и «Макдоналдсов»? Чтобы мы сделались рабами МВФ? Погибли ради того, чтобы мы бежали куда подальше от этой страны, неспособной предложить нам пристойную жизнь? Ради того, чтобы тысячи стариков спали на улице и замерзали насмерть? Ради того, чтобы православная церковь превратилась в процветающий бизнес, который не платит государству никаких налогов? В восемьдесят девятом они отдали жизнь за нашу свободу. Это был их рождественский подарок. Ну и где этот подарок? Что мы сделали со своей свободой? Зарыли в подвале? Или следим за ней рассеянным взглядом, как смотрят старую телепередачу?
Меня пригласили на чей-то день рождения, и там, во время праздника, я произнесла ваше имя. Они распрямились, словно вы вдруг выросли перед ними в своем белом купальнике, они по-прежнему уважительно относятся к тем незабываемым десяти баллам. Поздно вечером несколько пьяных в стельку тридцатилетних примерно девиц встали и затянули выученную в начальной школе пионерскую песню, явно стесняясь того, что им так нравилось петь песни во славу Товарища… Comunisti — вздыхал, глядя на них, молодой человек с мягкими вьющимися волосами и быстро крестил себе грудь.
Как можно восхищаться той, которая водилась с сыном Чаушеску, сердито говорил он, не глядя на меня, она же настоящая оппортунистка, а как сбежала, все бросив, и не без помощи секретных служб, если откровенно, нет, я не понимаю, зачем надо писать о ней книгу, а какая-то женщина трясла головой и затыкала уши, ну хватит, хватит, замолчите, будьте вы прокляты, все сколько есть, будьте вы прокляты, не смейте прикасаться к нашему чудесному детству, не смейте пачкать своими погаными языками нашу Надю, она подарила нам столько радости!
На рассвете я в очередной раз спросила: «А как здесь жили в те последние годы, в конце восьмидесятых, когда все вы были детьми?» – и они заговорили все одновременно, перебивая друг друга, похоже, каждому очень хотелось изложить свою версию.
Когда я пересказывала содержание собранных мной для книги материалов, в частности ряда чудовищных указов, одна девушка поморщилась: «Да, все верно. Но… мы были совершенно уверены в том, что это навсегда, что ничего и никогда не изменится, и потому изо всех сил старались продержаться, бдительно следили за собой, ни на минуту не забывали о том, что нам не говорят ни слова правды. В общем, всячески оберегали свою жизнь вне государства. Коммунизм? Да никто в него не верил, даже сотрудники Секуритате! Зато теперь… Они в новые басни верят! Они хотят соответствовать! Они готовы на все, чтобы войти в этот ваш Евросоюз, они преклоняют колени перед святым Либералом, они сидят на работе до одиннадцати вечера, и чего ради? Я шесть лет не была в отпуске! А мои родители при Чаушеску ездили на море и в горы, ходили в рестораны, на концерты, в цирк, в кино, в театр! Тогда все зарабатывали примерно одинаково, а цены почти не росли. Да, жили в вечном страхе, что правда, то правда, да, боялись, как бы кто не услышал, что в доме или на улице говорят запрещенные вещи, а сегодня можно говорить что угодно, поздравляю, только ведь никто нас не слышит… Раньше нам не разрешали покидать Румынию, а теперь ни у кого нет денег, чтобы поехать за границу… Да, с политической цензурой покончено, но не беспокойтесь, ее заменила экономическая! А этот псевдолиберальный режим, который нас как бы обхаживает, на деле отравляя? Мы, конечно, все глотаем, потому что на вкус врага не распознать, но в каком состоянии остаемся? Опустошенные! Коммунизм разрушил страну? А сейчас канадские компании выгоняют жителей из деревни и собираются с благословения румынского правительства взорвать наши горы, чтобы эксплуатировать месторождения сланцевого газа, чертовски выгодный контракт! Наши родители говорят, что Чаушеску разрушил город? А сегодня – в четыре часа утра, потому что боятся оппозиционеров, – подрядчики снесли старый рынок, исторический памятник Бухареста… и что построят взамен? Супермаркет или офисы. Вам что больше нравится? Подыхать с голоду на улице или умирать от одиночества в своей квартире? Скука в кредит? Добиться-преуспеть-достигнуть? Чего добиться-то, чего достичь и в чем преуспеть? Мне осточертело, что я вынуждена к вам стремиться, ах, западная мечта или, точнее, – ах, эти несчастные грязные восточные оборванцы, которых вы, с вашей чудесной идеальной демократией, не перестаете поучать, ладно-ладно, мы все поняли!»
«Вот что напишите, пожалуйста: раньше никто не хотел смотреть по телевизору идиотские патриотические передачи, и мы выходили из дома, мы жили вне его, не запирались каждый у себя, мы все вместе выезжали за город, да, можете написать, что у нас было мало продуктов, но пятнадцать сортов кофе – на что они нам? Мы занимались музыкой и танцем и танцевали бесплатно, не забыли записать?» – беспокойно спрашивали они, им хотелось сохранить и память об этом, а не только горькие свидетельства родителей, страшную версию людей, переживших эпоху Чаушеску взрослыми: продовольственные талоны, слежка, холод, страх… Я записывала, записывала, записывала – город, людей, страну, слова, как будто в них что-то было, некие указания, я записывала, а каждый торговец встречал меня просьбой spuneţi (скажите-ка), которую я переводила как «признайтесь», скажите то, что хотите сказать… Я постоянно об этом думала: сказала ли она то, что хотела сказать, услышала ли я ее? Я записывала эту страну, которая создала вас, Надя, и сделала своим знаменем, – страну, которую вы покинули 28 ноября 1989 года.
ВНЕСТИ ЯСНОСТЬЕсли только это случилось не в ночь с 26-го на 27-е.
– А знаете ли вы, что двадцать девятого и тридцатого ноября она просто-напросто неизвестно где пропадала, затерялась между Венгрией и Австрией? – спрашивает меня, радуясь возможности первым познакомить с красивой неофициальной версией истории, человек, некогда близкий к П., к тому, кого мы будем обозначать одной этой буквой, поскольку теперь он «больше не хочет обо всем этом говорить». К этому П., которого везде изображают инициатором побега, его «мозгом», человеком, убедившим Надю покинуть наконец страну, где у нее не оставалось никакого будущего.
Они познакомились за два года до того. Нет, за год. Но сама Надя в многочисленных интервью, которые давала по прибытии в Соединенные Штаты, утверждает, будто познакомилась с ним за несколько месяцев до побега.