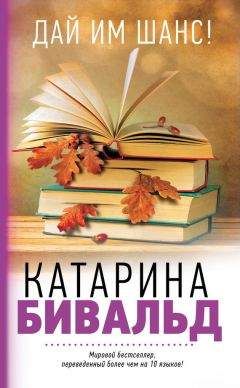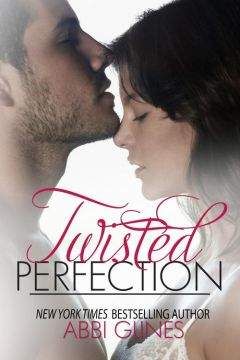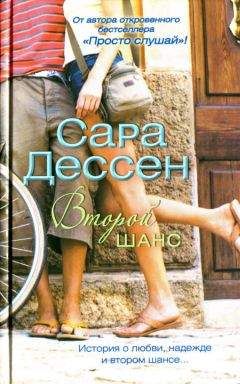Лола Лафон - Маленькая коммунистка, которая никогда не улыбалась
– Команду поделили тогда на две части, я была в Риме и ничего не могу вам рассказать.
Зима. Юлиана, сидя на санках, обнимает хохочущую Надю. Девочки на берегу моря, бледненькие худышки, у каждой в руках надувной мяч.
– Знаете, это вам надо записать… возьмите лучше эту ручку, ваша плохо пишет… Бела научил меня кататься на лыжах, Бела научил меня плавать, за границей, если было на что посмотреть, он нас туда вел, он хотел, чтобы мы развивались. Он проводил для нас экскурсии. Он был куда больше чем просто тренером, он был…
– Наставником?
– Отцом. Как жаль, что его перекупили американцы, теперь у нас нет возможности выращивать чемпионок, частные фонды не хотят вкладывать деньги. У нас не осталось тренеров, нет больше медицинского оборудования, которое позволяло бы, как раньше, выявлять и быстро лечить травмы. И потом… кто в наши дни пойдет на такие жертвы, чтобы в итоге не так уж и много получить? Наша чемпионка Европы 2004 года вынуждена была принять участие в телешоу, чтобы продать свои медали и на вырученные деньги купить себе крохотную квартирку, другие фотографировались для «Плейбоя»… Сегодняшние девчонки мечтают стать топ-моделями, а мы хотели быть непобедимыми. Все изменилось с падением Стены – в том числе и для гимнасток… Сейчас их заставляют выступать на соревнованиях накрашенными, даже в десять лет. Блестки, губная помада, и купальники у них с глубоким вырезом, более… сексуальные. Вы наши-то помните? Правда ведь, совсем другой стиль? Успеваете записывать? Возьмите еще кусок пирога. Вы пока ничего не спросили у меня о Наде, вас интересует что-то конкретное?
– Да, – ответила я, как только мне удалось вставить слово.
И стала задавать скучные, плохо сформулированные вопросы, заготовленные еще в дороге. Она отвечала коротко, и мне показалось, что ответы тоже были составлены заранее. Ничего для себя нового я не узнала и не открыла.
– Спасибо. А скажите… – прибавила я, этот наивный вопрос мучил меня уже несколько месяцев, – скажите, были у Нади одна или несколько очень близких подруг, с которыми ее объединяла бы не только гимнастика? Она никого не называла.
Юлиана улыбнулась, помолчала.
– Разве что когда ей было лет семь, не больше. А потом – ну как, по-вашему…
– Вы хотите сказать, что у нее не было времени? Или что ей слишком сильно завидовали?
Она прервала меня, помахав руками так, будто хотела разогнать мои слова:
– Мы не могли ей завидовать: то, что она делала, было слишком… далеко, далеко за пределами возможного. Мы были Надиным черновиком. Я так много о ней читала, и всякий раз главным в ее портрете оказывались результаты. Но ведь побеждать хочет любая спортсменка! А она… как бы вам объяснить… она любила побеждать… уверенно… Да, все мы – ее черновики, и я тут говорю не о медалях… Может быть, вы потому меня и расспрашиваете? – И, не дожидаясь моего ответа: – Меня, например, изумляло, что ее родители ни разу не пришли в конце триместра поговорить с Белой. Надя все сама с ним решала. Совсем его не боялась. А Бела ее обожал, и иногда казалось – это он подчиняется тому, что она придумывает, а не наоборот! Надя ничего не делала, чтобы нравиться. Когда она была девочкой, ее в этом упрекали, а она в ответ: мне не до того, мне надо сражаться с монстрами, – уж не знаю, что она имела в виду! Но… Я думаю, раз вы с ней самой разговаривали, все это вам уже известно.
В кухне стало совсем темно, разговор увядал. Мы молча переглянулись, и Юлиана улыбнулась.
– Вам надо увидеть нашу спортивную школу и статую, – посоветовала она, когда я встала. – Я хотела бы сама показать вам зал, но, к сожалению, сегодня суббота, а девочки по выходным не занимаются, мы-то работали семь дней из семи!
Мы распрощались, она пообещала прислать мне рецепт пирога.
На следующее утро я пошла той дорогой, которую мне показала Юлиана. Бегущая по камням речка, автобусная остановка… «После тренировки мы были настолько измучены, что даже Надя, которой до дома было идти метров триста, не могла вернуться пешком!» У входа в парк позеленевшая бронзовая статуя – девушка прогнулась, отвела руки назад, и они замерли между травой и небом, а внизу выгравированы имена тех самых семи девочек – памятник детям-солдатикам, ставшим теперь взрослыми.
Здание спортивной школы напоминало большую спящую черепаху, облупившийся голубой фасад прорезали стеклянные ромбы. Я бродила вокруг до тех пор, пока ко мне не подошел садовник и не попросил уйти.
Потом я провела неделю в Бухаресте. Встретилась с тремя спортивными журналистами – двое из них были комментаторами в Монреале. И еще с писателем. Каждый знакомил меня с другими людьми: «Слушайте, а я ведь знаю человека, который…» Я ходила на праздники и в бары, беседовала то с тем, то с этим, ездила на пикники, мы радовались чудесной погоде начала апреля, теплу, мои собеседники уважительно отзывались о моей книге – какая прекрасная тема; от большинства я слышала истории, которые уже знала. Мне не о чем было их спрашивать, потому что я не вела расследования. Мне хотелось написать Наде К., мне недоставало нашего общения, но письма, которые я начинала, слишком напоминали оправдания пристыженной и двуличной возлюбленной: я ничего такого не узнаю, Надя, чего вы не хотели бы, чтобы я знала, я вас не обманываю. Сколько бы она ни намекала, будто я хочу узнать то, о чем она умалчивала в своем рассказе, на самом деле ничего такого не было, я просто хотела услышать ее биографию, никем, в том числе и ею самой, не отредактированную.
Я бродила по Бухаресту, по его проспектам, где круглились трамвайные рельсы, на дома опускался вечер, теплую темноту едва рассеивали редкие фонари, в их оранжевом свете невозможно было разглядеть неровности тротуара. Я шла по бесконечным бульварам, кварталы построенных в семидесятые годы домов с блеклыми фасадами заканчивались у обширной площади, занятой гигантским и почти пустым магазином Н&М, сидящий на земле поп протягивал идущим мимо чашу, украшенную поддельными красными, синими и зелеными камнями, у его ног стояла табличка: «Помогите!» Картина выглядела настолько символической, что показалось, будто эту мизансцену выстроили специально для меня.
Я торопилась все, что вижу, записать, потом, уже на другой стороне бульвара, сворачивала – и сразу все оказывалось не так: тихие переулки и перекрестки уличали во лжи либеральность центра. Здесь было уютно. Дома стояли тесно, непохожие один на другой; за оградами, иногда укрепленными листами железа, угадывались прямоугольные дворики, пахло дымом, жгли прошлогодние листья, мальчик выбивал висящий на веревке для белья ковер, слышался крик петуха… Вывесок я не понимала, но все объясняли витрины: часовщик, швея, ремонт пылесосов или кукол, парикмахерская, галантерея. Днем бродячие собаки спали у дверей магазинов или между клумбами в цветниках, на закате собирались вдоль главных улиц, по которым мчались машины, смотрели направо и налево, потом осторожно перебегали дорогу.
Вы никогда не рассказывали мне о бухарестских деревьях – вот так, конкретно и невинно, могла бы я начать свое письмо к Наде, – а здесь деревья прорастают сквозь крыши брошенных домов и трава пробивается через трещины развороченных тротуаров, здесь деревья раскидываются широко, сплетая листву, затеняя улицы, они устроились основательно, прочно. Вязы, сирень, дубы, ивы, ясени, тополя и клены, липы и грабы забирают пространство, останавливают время.
Вы никогда не говорили мне, что здесь ничего не прячут, у нас, на Западе, кабели закапывают, фасады чистят – надо, чтобы вид был приличный; дороги гладкие, со свежим асфальтом, а здесь, когда проходит трамвай, путаница загадочных проводов подрагивает у самого неба.
Я шла наугад, я отправлялась на назначенные встречи пешком, я усердно все отмечала. Мост через Дымбовицу[64], два метра ограждения обрушились – и никакого знака! О горожанах здесь не беспокоятся: в Бухаресте не мигают табло, предупреждая о том, что завтра будет жарко и надо пить воду, в раскрошившемся асфальте провалы-кратеры, и прохожие огибают их, продолжая говорить по телефону.
Я наблюдала за молодой парой, которая оказалась передо мной у кассы супермаркета. Он – бородатый, в футболке от Пола Смита[65], она – уверенная в своем совершенстве крашеная брюнетка с волосами, забранными в высокий хвост, с безупречным цветом лица, непомерно длинными ресницами и нарисованными карандашом бровями; ее пальцы легко касались экрана смартфона. Они с бородачом были уже у двери, когда кассирша их окликнула: вы сдачу забыли! Беспечные деньги нуворишей в руке кассирши, ошеломленной, огорченной, не понимающей, кому теперь принадлежат эти деньги, раз их не взяли.
Мне назначали встречи в кафе, и чаще всего эти кафе оказывались в хороших домах викторианского стиля, с коваными козырьками над дверью. Сады, украшенные разноцветными лампочками, заполняла молодежь, одетая как везде в Европе. Одно из кафе было оформлено «под старину» (подразумевалось – как при коммунистическом режиме), там крутили только старые пионерские песни, и это было самое модное место в городе.