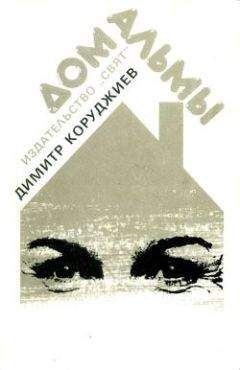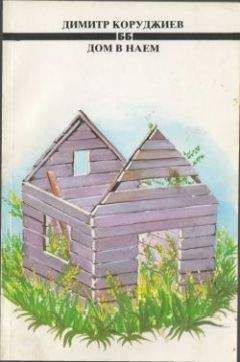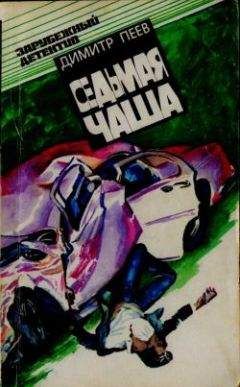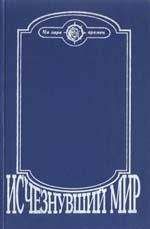Галина Щербакова - Эдда кота Мурзавецкого (сборник)
За своими мыслями я совсем забыл, что у меня гость, Том. Я увел его из спальни, мы сели в кресле, воистину как гости, и Том сказал:
– Знаешь, в этой комнате Па ставил мне капельницу. Самое отвратительное, что было в жизни. Ну как им, дурачкам, было объяснить, что я уже улетаю, что мне лапой машет Матвей, а Клея выгнула спину и шипит на Ма и Па.
Но я терпел болючую жизнь ради них. Глупо, конечно, мне ведь всего ничего оставалась, несколько минут, и так хотелось пить, и я вырвался и пошел к плошке. Какое это наслаждение – вода. Я пил, а они смотрели на меня и думали, что ко мне возвращается жизнь. Но я умер возле плошки. Заметили ли они, что я, как честный кот, махнул им кончиком хвоста? Я не стал смотреть, как они плачут, у меня бы не выдержало сердце. Хотя это дурь. Сердце было уже ни при чем, – он посмотрел на меня как-то очень серьезно. – Я рад, что ты здоровый малый. Береги их.
Мы погоняли по дому шарик. Томик повисел на шторе, слегка раскачивая ее. В окно на нас смотрела полная самодовольная луна, и я вдруг спросил:
– А у вас есть луна? Что-то я ее не припомню.
– Ты темный кот. У нас нет луны, нет звезд, нет солнца. Мы даже не в галактике. Наш мир иной.
– Инопланетяне? – спросил я.
– Даже не они. Мы ближе и дальше – одновременно. Мы те и другие. Это одно из свойств нашего мира – быть и не быть – способность перевоплощения. В сущности, меня ведь нет. – И его действительно не стало. Только что был – и нету. Но я ведь его знаю, тот мир, и одновременно не знаю совсем.
Мне хочется туда, но я так люблю этот, что с луной и дождем, с его шумом и гамом. С собачьим лаем противного, но, как выясняется, и любимого тоже Тошки. Я люблю в этом мире все, а больше всего Ма и Па. И пусть тут иногда плохо пахнет (жареная рыба или лимон), пусть здесь много неприятных звуков, например, телефонные звонки... Как-то Муська сказала мне, что тоже ненавидела звонки, а когда они уж очень досаждали, перекусывала провод.
– Попробуй! – сказала она мне. – Такая после этого начинается суета, что можно сдохнуть. Твоя Ма просто заходилась в истерике, потому что не знала, вышел ли с работы Па. Самое страшное для нее – не знать, где он.
Я сказал Муське, что теперь нет такой проблемы, у всех мобильники. Она не могла понять, что это, и я, это нехорошо с моей стороны, тогда и взял ее с собой. О! надо было видеть – возвращение умершей кошки в ее бывший дом. Муська вся дрожала от возбуждения. В спальне она прыгнула на трюмо. Ма всегда клала голову на книгу, которую читала и потом пристраивала на подушку рядом с трюмо, вблизи всяких там баночек.
– Она очень изменилась, – сказала Муська, разглядывая спящую Ма, – подсохла. У нее остались ямочки на щеках? – спросила она меня. – Раньше, когда она прижимала меня к лицу, из ямочек ее пахло счастьем. Ты знаешь, как пахнет счастье?
– Знаю, – ответил я. – Это колесико детской машинки. Па бросает мне его – и я когда поймаю, а когда нет... Но когда колечко непойманное и пролетает мимо меня – оно пахнет как ничто.
И мы замолчали, глядя на спящих Па и Ма.
– Идем, я покажу тебе мобильники.
Они лежали рядышком на телевизорной тумбе. Я и оглянуться не успел, как Муська смахнула их на пол и стала гонять по комнате. Мне и в голову не приходило, как легко и грациозно могут они кататься по квартире. Как тут было не присоединиться к восторженным зеленым глазам Муськи. Но не прошло и минуты, как мы не увидели мобильники. Они исчезли в пространствах подземелий пола – то ли под диваном, то ли под стеллажами, то ли под креслами.
– Это куда легче, чем перекусывать провода, – сказала Муська.
Откуда ей было знать, что, если они остались живы после нашего хоккея, то зазвенят как миленькие.
– Ну, я пошла, – сказала Муська. – Раньше здесь было интересней. Играла музыка.
– Но сейчас же ночь...
– А разве ночь помеха музыке? Это самое ее время.
Я шел ее провожать обескураженный. Я не знал, что женские ямочки пахнут счастьем, я не знал стремительность скольжения мобильника по полу. Мне не приходило в голову это делать. И я не знал, что ночь – время музыки. Я не зря уважал Муську, она оказалась куда образованней меня, и я решил, что, если все обойдется с мобильниками, я приглашу ее еще. Мы ведь не успели побывать на кухне, я не успел ее угостить вкусненьким. Но она растворилась в пространстве.
Я лег на ноги Ма. Она деликатно ими шевельнула и, приподнявшись с подушки, погладила меня по голове. Она теперь будет досыпать спокойно, зная, что рядом и Па, и я. Как же я их люблю!
Пояснение хозяйки.
Утро движется лениво и нелюбопытно.
Звонок от соседки Алены объяснил ситуацию. Какие-то чертовы хулиганы покурочили припаркованные у подъезда машины. Это было чистое мародерство пополам с изуверством. Алена кричала в трубку, что надо вызывать аварийку, что мужу добираться до работы своим ходом полдня, и он собирается это сделать. «Идиот!» – кричит Алена. Соседи по несчастью уже как-то самоорганизовались, они живут ниже и спохватились раньше, а с двадцать второго этажа, объясняет Алена, как кинешься выручать машину? Вниз головой?
Мурз стоит рядом и внимательно слушает мое сочувствие, возмущение и мою полную неподходящесть для решения вопроса. Мурз доволен. Он понял, что ни я, ни муж не помчимся вниз, бесполезные старики. У меня делается противно на душе, это всегда, когда я беспомощна в деле и затыкаю дыры беды-не беды потоком слов. И как бы в ответ на мои столь слабые силы Тошка лает громко и как-то даже заливисто. Это гнев на меня маленькой хорошенькой псины, которую я люблю, и я, как-то не задумываясь, глажу Мурза, а он хватает меня за палец.
Конечно, я не прав. Но я терпеть не могу, когда она оправдывается перед всеми за то, что живет в глупой стране, за этих отвратительных начальников страны в телевизоре, за то, что у нее нет денег всем что-то купить и за то, что она любит этого недоумка Тошку. Ну что ж ты так стелешься, Ма? У тебя есть я и Па, и мы любим тебя такую, какая ты есть, даже если ты, с точки зрения Алены, неумеха и балда... Тут я и грызнул ее слегка за палец. Так, чуть-чуть... Я бы умер, сделав ей больно на самом деле. Просто я оторвал ее от этой болтушки Алены и заходящегося в крике Тошки.
Потом она рассказывает все Па, но я вижу и чувствую, что ему малоинтересны дела соседей. Он по природе близок к нам, котам, сосредоточенным на самих себе. Сколько у нас на форуме разговоров про это – кто на земле лучше всех. Этот вопрос почему-то любят поднимать египетские кошки. Тонкотелые, гладкие, с глазами, в которых весь мир. Конечно, они считают, что они-то точно лучше всех. И я готов согласиться, потому как я мудрый норвег и никогда не вступаю в спор с другим полом. Пол для меня ничто, таким меня сделали Па и Ма, и я им за это благодарен. Хватит мне мысленных мартовских глупостей. Они меня смущают, как бы сказать точнее, совращают, но это все миг, касание мартовский звезды, особенно задиристой в этот месяц. Но я свободен от больших и глупых смятений. Я мудр и спокоен. Я не просто свободен от бремени плоти. А вот Тошка – нет. Вот почему от него столько шума.
Когда я вернулся, они мирно спали. Я решил подсмотреть их сны. Когда-то Ма сказала Па: «Это неприлично, как подглядывать чужие сны». С тех пор я стараюсь этого не делать. Но тут уж не удержался. Я решил подсмотреть только сон Па. И я его увидел. Па сидел на пеньке и ладил удочку. Он еще молодой и грустный. Удочка не ладилась, и он ее сломал об колено и пошел к реке, и стоял так, что я почему-то за него испугался и кинулся ему в ноги, но он переступил через меня и пошел прочь, а я шел за ним, а потом он растаял в своем сне, но у меня почему-то осталась печаль и страх от этих его пяти шагов, которые он сделал навстречу речке. Мамин сон – клубящееся белое облачко – я не стал трогать. Я лег им в ноги, теплые такие, уютные, и заснул. Проснулся от слов Па.
– Странный такой сон. Я сижу на берегу реки и она меня тащит в себя. Именно так: некая сила, которую мне не перебороть, тянет меня в воду. Такой сон, всего ничего – я и река, а душа болит.
– Река – это хорошо, – говорит Ма. – Это долгая жизнь.
– Уже не актуально, – отвечает Па. – Хватит с меня долгой жизни. Войны, Сталина, вселенской русской дури и еще этого кризиса...
– Скажи, как на духу, разве нам плохо вместе при всем этом прожитом и проживаемом?
– Так ведь это единственное, что у меня есть. Наше с тобой – мы. И это много. Ради этого стоит просыпаться. И еще ради него. Видишь, он тут как тут...
И Па треплет меня за холку. Я мурлычу в ответ.
– Вот бы понять, про что он мурлычет, перевести бы это на человеческий язык. Как ты думаешь, дойдет до этого наука?
– А зачем? Ты, что ли, так его не понимаешь? Слова ничего не упрощают и не облегчают. Они, наоборот, все подчас испохабливают.
– Давай мурчать...
– Я бы не возражал. Если бы не великая литература, то я бы с удовольствием забыл слова. Помнишь великого-развеликого Маяковского. Начинается так: «Слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платья...» Сразу думаешь, какой умница! А он возьми и ляпни: «Хочу сиять заставить заново величественное слово партия». Тут уж впору не слова забыть, а забыть напрочь этого поэта. Не хочу при коте ругаться. Опозорил, сволочь, имя Гоголя и Чехова.