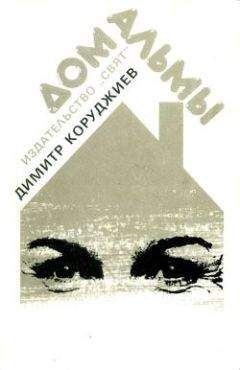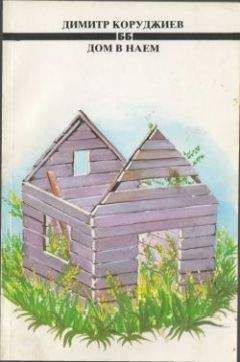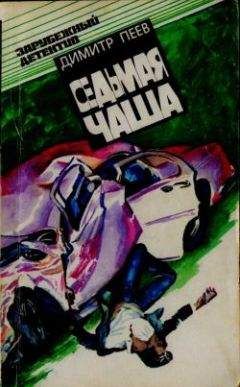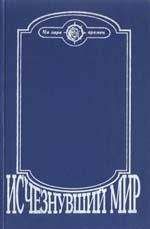Галина Щербакова - Эдда кота Мурзавецкого (сборник)
Дочь нашла свою судьбу тоже далеко, в радости ничегонеделанья. Для этого была придумана болезнь – чтоб быть жалеемой. Она ради этого бросила свою дочь, родителей, чтоб лежать и не шевелить в этой жизни даже пальцем. У нее, абсолютно здоровой, от этого истлела совесть, потому она – так мне объясняла Клея – не попадет даже в мир плохих мертвых, а полетит на белых крылах придуманной болезни прямехонько в ад.
Ма и Па плачут о детях, хорошо, что я рядом, я трусь об их ноги. Я заберу их с собой, они точка отсчета смысла моей жизни.
А ад есть. Мы ходили с Матвеем его смотреть, это совсем рядом, стоит повернуть голову. Вы думаете, там возникает раскаяние? Да нет же! Там человеку дано в полной мере все то, чего он так жаждал. Жаждал зла другому – получи его сполна, слови кайф ненависти. Адовы люди наслаждаются злом полным ртом, так как у них нет совести. И наслаждению ненавистью нет конца: хотел – получи, пока от тебя, истлевающего от собственной натуры, не останется горстка плохо пахнущего пепла, который слижут тамошние адовы змеи.
Я детей Ма и Па, естественно, не знаю, я слишком молод, мне о них много рассказывала мудрая Муська, она видела, как росли сын и дочь. Я всегда удивлялся, как люди не видят завтрашний день, он ведь ничем не скрыт, как не видят будущего своих детей и потому так глупы в отношениях с ними. Муська говорила, что мальчик был хорош, но в нем всегда царствовало самомнение, что он все знает лучше всех. И Муське был виден этот его раздутый шар «я», и он нес его, куда хотел. Люди с раздутым шаром в себе – самые немощные. Ложная легкость жизни мешает им видеть и понимать. Они уверены – их шар пронесет их мимо беды и зла. Ан нет! Тут-то шар и зависает. А человек до этого просто взял и выпил – и почувствовал взлет и еще большую легкость.
И он перестал чувствовать разницу между полетом и зависанием над бездной своей жизни. Так говорила Муська. Дурачок думал, что он движется, а он висел над запахом спиртного, и так в нем и остался. Остатком разума, он ведь не дурак, он чуял – что-то не так, но зависшему не дано видеть истину. Он разрушался на глазах родителей, те кричали нечеловеческим криком горя, а всего ничего надо было – проколоть шар самодовольства – и дать ему пасть оземь. Надземная сущность есть над каждым человеком, она его главная часть, она не видима и не слышима людьми, но она ощущаема ими в какие-то особые минуты откровения. Надо бы уметь слышать в себе этот дивный голос невидимого, но... Почему-то человеку Бог не дал сверхуха, сверхглаза, сверхчутья.
Но иногда, иногда надземная сущность так пронзительно, так сильно является в человеке. И тогда он мечется, не зная, радоваться или плакать. Проткнись шар сына – он бы мог и умереть, и остаться нормальным. Но сколько раз Ма думала, видя его в отключке: лучше бы я похоронила и отплакала его. Но сын жил, не зная этой молитвы матери.
Я трусь о ноги Ма. У нее такие тонкие щиколотки. Я боюсь за них, столько на земле лестниц и ухабов. У Па ноги как раз крепкие. У него слабые руки. Но он делает ими все. Он не может без дела.
– Ты сволочь, – говорит мне Ма. – Хоть бы намекнул, где ты был.
– Где был, где был, – отвечаю я им мысленно. – Не скажу. Жирно будет.
Ночью я все-таки доберусь до Матвея. А может, и нет. Мало ли – захочет ли он в тот момент меня видеть? Но тогда я точно увижусь с персом Томом, жившем в моем доме до меня. Он обещал познакомить меня с большим кошачьим семейством, которое жило у Ма и Па, когда они были совсем молодые. Когда они пели и «чушь прекрасную несли». И дети были детьми, любимыми и дорогими. Том нашел Муську, ее сына Ваську и нескольких их детей. У людей это называется инцест. Честно говоря, мне не хочется увидеть тех, кого любили до меня, но скребет любопытство. Я пойму их, как только их увижу. Не зря Матвей говорит: «Ты пронзительный кот. Такие бывают британцы и норвеги, и сибиряки вроде меня».
Но в ту ночь я так никуда и не пошел. Ма просыпалась каждые полчаса и искала меня по квартире. Чтоб не нервировать ее, я выходил ей навстречу, как только она шелестела тапками. Она гладила меня и говорила:
– Не делай так больше, ладно?
К утру она крепко уснула. И они пришли сами. Муська и ее сын-муж. Она очень по-хозяйски, а по-моему – нагло осмотрела мой лоток с едой и питьем, а Васька пошел в спальню, прыгнул на кровать и стал обнюхивать своих бывших хозяев. Я боялся, что они вдруг проснутся. Но что такое касания неживущих? Это даже не кошачий ус, не нежный лепесток розы, не легкий поцелуй ветерка. Все гораздо нежнее. Это ничто и все, сказать по-научному – любовь на молекулярном уровне.
Я в какой-то момент даже обиделся: мне показалось, что Васька их любит больше, чем я. Но я себя окоротил – такое невозможно. Потом он пошел по квартире и сказал, что в ней иначе пахнет, что раньше здесь сильно пахла девочка, он не любил бывать в ее комнате.
– Какая она? – спросил я. – Они страдают без нее.
– Зря, – ответил Васька. – Она не стоит страданий. Она была по природе змеей, хитрой и верткой. Ее мучило неуклюжее человеческое тело, например, ступни, на которые надо было становиться. У змей, как ты знаешь, нет ступней. А сын был как раз хороший, но он был очень слабый, почти бессильный, и ему было тяжело носить большое мальчишеское тело. Он искал способы облегчить это. Мотался на велосипеде, как сумасшедший. Где он?
– Он алкоголик, – ответил я.
– А! – ответил Васька. – Вспомнил. Я его видел. Он шел, как ходит по земле птица с подбитыми крыльями, она ищет смерть.
Потом мы сидели вместе на кухне. Муська была очень красива, с утонченной мордой и большими чуть косоватыми глазами. Васька был вахлак. Растрепанный, взлохмаченный. Люди почему-то особенно любят это – большую торчащую шерсть. Это в них говорит тоска голого человека, вынужденного цеплять на себя много разного неживого, и это портит им жизнь и здоровье.
У эволюции свои просчеты. Это любит повторять Матвей.
Я намекнул гостям, что пора и честь знать, и они поняли это сразу, вмиг исчезли, а я остался посередине ночи и кухни, как дурак, но тут рядом возник молодой перс и сказал, что это его кухня.
– Это ты – Том? – спросил я, еще не отвлекшись от прежних гостей.
– А кто же еще? Они ушли – меня не взяли. А я ведь был тут самый любимый.
– Я знаю, – сказал я обиженно. – Ма часто называет меня Томом. Я не отзываюсь, пока она не попросит у меня прощения.
Что бы ни говорили люди, а происхождение, род, предки – все это сказывается. Мы, коты, в сущности, никогда доподлинно не знаем своих отцов (исключение – дети Муськи и Васьки, но это, скажу я вам, все-таки моветон), но как же сказывается тайна рода в последующей жизни. В Муське просто дышит королева, а Томик – типичный затюканный детдомовец. Его продали за бесценок как бракованного. Он сидел в отдельной клетке, а рядом в большом вольере важно мыла морды чистая здоровая порода.
В сущности, у людей так же. Но они могут взять чужую фамилию, облагородиться образованием... Но торчит, все равно торчит в каждом или грязный хвост прапрадеда или замашки проститутки, но бывает – бывает же! – и проступает гордая поступь какой-нибудь графини.
Кстати, о дочери. Она решила, что фамилии родителей и первого мужа – Сидоровы и Крюков – слишком просты для нее и взяла себе фамилию второго мужа – Кацман, то есть, в сущности, Кошкина. Лично меня это оскорбляет, я считаю, она не имеет права быть Кошкиной. Это для нее слишком, недостойная ее честь.
Мои хозяева из простых. Но это, в моем понятии, не ругательство или презрение. Это просто факт, что все их «пра-» или пахали землю, или служили в армии, вышивали крестиком или принимали роды. Вот роды я никогда не видел. Но Матвей видел все, даже, как я уже говорил, умирающего Толстого. Он говорит, что роды – самое омерзительное зрелище на земле. И вот я теперь думаю: а почему так? Почему явление на свет так отвратно, как говорит Матвей? Нет ли в этом намека, что жизнь отвратительна сама по себе? Или это знак начала – от минуса к плюсу, от ужасного к прекрасному?
Я помню себя уже в неге, у живота матери, под мелодию ее мурлыканья. Нас было пятеро, и мы толкались изо всей едва проявившейся силы. Мать лизала нас, а потом, бывало, уходила. И наступал ужас беззащиты. Мне кажется, я был трусоватей своих собратьев, мне не хотелось становиться на слабенькие ножки, чтобы заглянуть за корыто – а что там? Надо сказать, я до сих пор не любопытен. Просто я уже знаю главное. Миру запахов и вкусов приходит конец, и наступает мир, где всегда рассвет и нет заката, всегда не жарко, но и никогда не холодно и не нужно тыкать носом, чтобы понять, что и как. Мир познан, открыт и спокоен, во всяком случае, так у нас, у котов.
Я однажды случайно заглянул в человеческое место постоянства, там тоже тихо и спокойно, души людей безмятежны и чисты. И они не теряют друг друга. Но есть еще мир плохих душ. Я не ходил туда. Говорят, там плохо пахнет и души людей не находят себе места. Но мои Ма и Па будут со мной, я прослежу за этим, хотя я знаю, они будут искать своих непутевых детей. Но те будут там, где грешная, смятенная душа будет кувыркаться в бессмысленной панике, как дура.