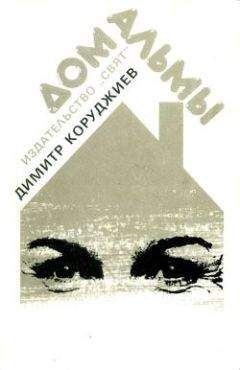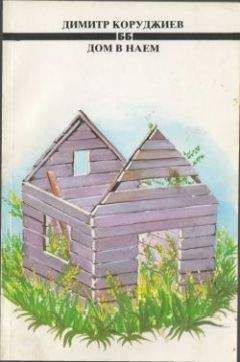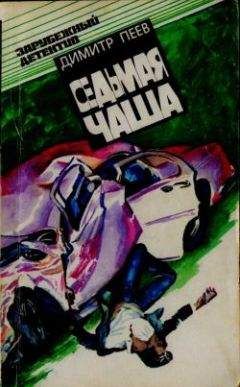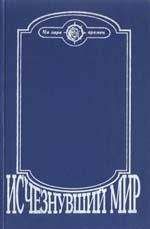Галина Щербакова - Эдда кота Мурзавецкого (сборник)
Я не понимаю. Я не видел козлов.
– У них уже нет дачи? – удивляется Том.
– Уже нет. Пришлось продать. Но я на ней не жил никогда.
– Горе ты луковое! – смеется Том.
Я молчу, ибо не знаю, что такое горе луковое.
Как-то мне скверно. Этот плосколицый перс знает куда больше меня, а я ведь считал себя умницей и достаточно образованным зверем.
– Ладно, – сказал Том. – У каждого кота свой путь и своя среда обитания. Ты это хоть понимаешь?
Мне хочется его стукнуть, хотя это я как раз понимаю. Я люблю слушать разговоры Ма и Па. Люблю их анекдоты. Но вот слово «козел» мне не попадалось. И слово «дача» тоже мельком. Это же не значит, что я идиот?
Мы расстаемся с Томом почти по-дружески. Вразвалочку он идет в свою компанию, а я бегу к Муське.
– Сейчас же объясни мне, кто такой козел! – требую я.
– Зачем тебе это надо, дурачок? – спрашивает она. – Это такая большая собака с рогами. Ты что, никогда не слышал эти стишки: «Идет коза рогатая за малыми ребятами: забодаю, забодаю, забодаю»? Козел – это ее муж. Ты не рос с малыми детьми, ты не слышал детских книжек.
– А как пахла их дочь?
– Плохо, – сказала Муська. – Как пахнет плохой человек. Ты неженка, тебе в твоей жизни ничего не воняло.
Ну, и что я получил в результате? Что я недоумок, что я не знаю многих слов, которые у Муськи и Тома просто сыплются с языка. «Козел», «дача», «горе луковое»... Плохой запах... Вокруг меня хороший. Мне несимпатичен запах Тошки, но это правильно. Он псина. Это слово я знаю. Па мне говорит после моих встреч с Тошкой: «Не обижай псину. Она славная. Собаки и коты – часть человеческой жизни».
...Я на минуту вышел в подпространство, чтобы встретиться с котом Матвеем. Люди не умеют, закрыв на миг глаза, оказаться в нужном им месте. Это до смешного простая штука, если знать, что параллельный мир рядом, тут, в сущности, он вокруг тебя и смотрит тебе в глаза. И вот я вышел на секунду к Матвею. Он давно, лет сто как покинул наш мир, но по телесной, объемной жизни со вкусом и запахом очень скучает. Вот и сейчас он первым делом меня понюхал.
– Тебя обкурил хозяин, – сказал он сморщившись. – В мое время табак пах тоньше и благородней.
Ах, как я не люблю это в нем – придирки к моему времени. Он думал, что если видел еще полуживого Толстого и обнюхал его следы, которые привели старика в Астапово, то имеет право быть бестактным. Не думаю, что следы Толстого пахли лучше табака моего хозяина. В общем, мы тогда только встретились и уже были раздражены друг на друга. Но я бы преодолел это – так интересно мне с ним разговаривать, – если бы какая-то неведомая сила в тот момент не рванула меня назад, в мое время. Так еще никогда не было. Мы подолгу заседаем на форумах или болтаем друг с другом о своих хозяевах, и никто никогда меня не тревожил и не выдергивал из параллельного мира в эти приятные моменты жизни в нем. А тут этот рывок, болезненный рывок, скажу вам, будто меня растягивали в длину до полного разрыва.
Я оказался на пороге комнаты своего времени, посредине ее стояла Ма и буквально рвала на себе волосы, крича при этом, что надо немедленно вешать объявление о моей пропаже. Я ткнул ее лбом, а она схватила меня так, что мне пришлось уворачиваться от ее мокрого лица.
– Ты где был, солнце мое? Где тебя носило, сволочь ты такая? – плакала и смеялась она сразу.
Они плохо пахли, омерзительно пахнут у людей нервы, когда они их распускают. Что бы ты сказал, Матвей, на этот запах? Я просто вижу твою брезгливую морду.
С трудом мне удалось спастись от жарких объятий. Боже, как же оно беззащитно, это человеческое существо, как оно беспомощно в мире, где все так близко, так рядом, но они слепы и глухи, живущие в скудном пространстве трех измерений.
Они не знают удивительный мир мертвых, мир без слов и жестов, но одновременно такого пронзительного взаимопонимания, при котором зло и жестокость не могут возникнуть по определению, там нет корней для этого. Я люблю там бывать, котам это дано. Собаки бьются в прозрачные стены иного мира, но разве можно добиться своего нахальством? В том мире – нет, в человеческом – только так. Но если говорить все честно, в тонком мире подпространства тоже есть свои проблемы. А пока вернемся к запаху валерьянки, который заполонил всю квартиру. Они не могут прийти в себя, мои люди. Я заберу их, когда буду уходить совсем. На форуме стоял вопрос о тех, кто одинок в мире людей, кто никому не нужен. Их не счесть. Тьма. И больше всего в России. Страна фатального недостатка ума и совести. Здесь в чести только предательство, нож в спину, подметные письма и торжественная осанна ничтожеству, стоящему у трона.
Я отдаю отчет: это неточно, спорно. Русские тоже всякие. Матвей говорит, что я мало еще пожил, чтоб так замахиваться на всех. Ладно. Не буду. Но для этого мне не надо слушать радио, слушать мысли Ма и Па, не надо ощущать (интересно, как?) то дрожание тревоги, подчас ужаса, злобы и ненависти, которые растворены в воздухе России. Конечно, есть и другое – есть Ма и Па, они русские с головы до ног, но сколько же в них добра и нежности. Черт возьми! Сломаешь голову с этим народом.
Но постараюсь быть объективным.
Вот на эту тему мы и хотели говорить с Матвеем. О том, что сто лет со дня его смерти – он умер в год революции – привели Россию к полному моральному падению. Я постараюсь защищать свою русскую родину, как могу. Но он мне в ответ, как всегда, скажет: «Это моя родина. Я не пришлый кот. Не приблудный норвег. Я искони сибирский. Во мне вся русскость, какая есть. А значит, моя точка смотрения точнее». «Точка предсмертных следов Толстого?» – смеюсь я. «Назови свою!»
Моя точка – это Ма и Па. Уже немолодые, но ни минуты не сидящие без дела. Их бросили дети, ища кусок счастья пожирнее, чем дома.
Мне о их сыне, мальчике, рассказывала Муська, которая тогда жила у них.
– Он пахнул бедой, – говорила она. – И Ма это чувствовала. Потому и отпустила его в эмиграцию, думая, что там ему будет лучше.
Ах, Ма, Ма... Она у меня умница, добрая, хорошая. Но, между нами говоря, дурочка. Не понимала и не поймет никогда, что не может быть побега от себя самого. Твои потроха всегда с тобой. А сын был слаб духом. Глоток спиртного взбадривал его слабенькую душу, и он находил в этом утешение. Как и весь российский народ. Глоток – и уже откуда-то кураж, лихость, и даже мысль взмахивает крылышками, а на самом деле – обманка и самообманка сразу. И уже пошла-поехала плясать губерния слабой человеческой природы. Родители приискали ему классного врача-специалиста. Но молодой идиот был уверен, что он силен и сам со всем справится. «Мне никто не нужен, – кричал он пузырящимся ртом, – я сам себе врач». Теперь гниет в одиночестве чужой страны. Жена нашла себе другого – нормального, а вот мать сыночка не найдет уже никогда. Я-то знаю, о чем он иногда думает там, далеко. Я нет-нет да захаживаю к нему. Подглядываю. Он думает, что вернется и будет читать и перечитывать книги. А когда-то наткнется на те книги, которые любил в шестнадцать лет, – Бредбери, Шекли, Саймак, Лем, – и уйму им подобных, вспомнит те мысли, те порывы, которые были в нем чисты и прекрасны... А Ма, забыв о себе, все несла и несла книги в дом, и это было счастье. И когда он вспомнит это, то закричит дурным голосом и шагнет с балкона. Он не дурак, он видит этот шаг с балкона, потому и не вернется. Он еще очень хороший, и по сути своей ему стыдно. Ма все это тоже видит – не без моей подачи. Я внушаю ей мысль не умирать раньше времени. Ради сына и ради меня. Я ведь еще совсем молодой, и не хочу без них.
Но Ма чудит совсем по-человечески: прячет фантастику на антресоли. Я лижу ее дрожащие руки, когда она держит книги. «Куда ты спрячешь балкон, родненькая моя, – думаю я, – если все-таки сын совсем плох и выйдет на него?»
Ма гладит меня. «Немтырь ты мой, что бы тебе заговорить?» Вот это, конечно, главная проблема человеческой сущности, самая что ни на есть... Люди не слышат мыслей, не считывают их из тишины. Как же ты обмишурился, Бог, со своим венцом природы, прости меня Христа ради.
К вопросу о Христе. На эту тему мы говорили с египтянкой Клеей. В Верхнем мире уже не имеет значения, кто ты был по вере. Остается только суть, что ты снискал, крестясь двуперстием или трехперстием, пряча лицо в платок или открывая его ветру. Считается только добро и зло, совершенное тобой лично. Сколько путников напоено твоей водой, сколько слез омыто тобой с человеческих лиц. И на чьих коленях умирала твоя мать, родных или совсем чужих. Или совсем одна-одинешенька.
Вообще, живя с Ма и Па, я стал сентиментальным. Негоже это. Хотя что греха таить, сентиментальность мне милей жестокости, симпатичней суровости, родней вздорности. Но тем не менее: бегущая по щеке слеза Ма и понурый взгляд Па плавят мое норманнское сердце. И тут уже ни два, ни три – просто хочется заплакать. Замечательно, что я это не могу, не так устроен. Но природа моя обрусела, обмягчела, я жду их ласки, слабею от слов «А где спряталось наше солнышко? Мурзик, покажи свою мордаху». Я им сын, я им внук, но ни за что не их дочь. Муська мне сказала, что даже когда та была ребенком, она пахла злостью.