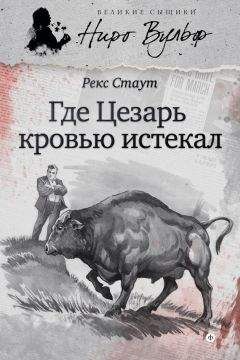Робер Сабатье - Шведские спички
Мак сопровождал свои угрозы весьма воинственной жестикуляцией. Он подпрыгивал, делал финты, поигрывал кулаком, поводил головой, плечами, нацеливался коленкой, ступней, и невидимые противники, один за другим, падали вокруг него. Он их хватал, отбрасывал дальше, вызывающе поправлял галстук, озирался: «А ну чья очередь?» Оливье растерянно смотрел на него. Казалось, Мак был в трансе, черные жирные пряди его волос упали на лоб, он гримасничал, стал похож на гориллу или бешеную кошку. Ребенок в испуге отпрянул, прижался спиной к двери, чтобы оставить Маку побольше места.
А Красавчик продолжал:
—…Ты ставишь пальцы вот так, — он сделал рожки, — и тыкаешь в глаза своего врага: выколотые буркалы — ну это же прямо праздник, представление в театре ужасов! Потом бьешь сапогом в берцовую кость: можно гарантировать два месяца лежки! Смотри, как надо ломать пальцы: вот так, крак, сухой четкий удар… Пусть на тебя нападут двое, ни черта не выйдет, пустой номер! Они еще, конечно, дерутся, но уже осторожничают. Представь себе, что ты сам заливаешься кровью. Бей все равно первым. Запрещенным ударом, подлым способом, внезапно. Или боксируй, но это наука, это, понимаешь, не просто потасовка…
Мак встал в позицию, прикрыл лицо и начал показывать боксерский бой, называя приемы:
— Свинг, апперкот, вот левый, в брюхо, в подбородок, раз, два, три, вот прямой справа. Смотри как следует, что я делаю… Если будешь внимателен, ты им покажешь! Вот так: бах-бах-бах! Подайся вперед! Проведи их! Делай, как я!
Оливье начал немного успокаиваться. Мак его уже не пугал. Только не прерывать его, пусть выговорится, Как Альбертина, как Гастуне, как все другие. Мальчик принял оборонительную позицию, и Красавчик немного его поправил, показав, как двигать ногами, как увертываться… Оливье прыгал на месте, подражая боксерам, которых не раз видал в кинохронике, с силой выбрасывал кулаки.
— А ну давай, воробей, тычь меня в грудь… Хоп, хоп, хоп! Сейчас я тебе выдам…
Оливье получил легкий удар в подбородок и тотчас все перед ним поплыло, закружилось, и он упал навзничь на матрас.
— Доктора! — проревел Мак, оскалив зубы.
И он принялся за новую роль, брызгал на ребенка холодной водой, растирал ему щеки, массировал затылок и плечи, совал в рот картофельные очистки, якобы для защиты зубов в бою. Когда мальчик поднялся, еще несколько оглушенный, Мак схватил кастрюлю и ложку и изобразил удар гонга:
— Второй раунд!
На этот раз Оливье защищался, соблюдал дистанцию и заполучил всего лишь несколько шлепков ладонью, которые стойко перенес. Потом он остановился перевести дух и сказал Маку:
— Устал я….
— Ага, выдохся, знаем мы это! — бросил Мак, который тоже запыхался.
Он сел прямо на пол и, истерически смеясь, начал жонглировать боксерскими перчатками. Затем встал и сказал более спокойным, поучительным тоном:
— Вот так, открываешь ладонь, вытягиваешь пальцы и ребром — р-раз, прямо как саблей! В горло, только покрепче… Бах, бз-з! Неподражаемо! Или кулаком в солнечное сплетение. Сюда, сообразил? И нет человека!
Оливье кивал, повторяя движения Мака. Однако он чувствовал себя слишком неловким, неуклюжим для этого и знал, что никогда в жизни не станет никого так колотить.
— Прямым ударом в нос… И кр-р-рак! — показывал Мак, а Оливье только кривился.
Если бы Оливье все же пришлось так бить противника, он бы страдал вместе с ним. Но мальчик не хотел обнаруживать это перед Маком. Он сжал зубы, выставляя вперед подбородок, тщетно старался сделать свирепую физиономию, но все изобличало его в притворстве: светлые кудрявые волосы, невинный детский взгляд. Никогда Виржини не била его, ни разу не дала ни пощечины, ни шлепка, а сам он терпеть не мог драк. Когда на Оливье нападали, он хотел только одного — обуздать своих противников.
Мак все еще неистовствовал, но возбуждение у него угасало, глаза потускнели, у рта появилась горькая складка, будто он в себе сомневался. И почти умоляюще Красавчик обратился к Оливье:
— Я ужасен, а? Дерьмо этакое, скажи правду, ужасен? Ты встречал таких типов, как я? Папаша мой был пьяницей, печень у него была, как губка, маменька вообще смылась неизвестно куда. Сам я вырос в мерзкой лачуге! На улице вокруг тоже всякая падаль, только подонки, гаденыши. Но я, я — каид, ты слышишь — каид!
— Да, мсье! — сказал Оливье.
— «Да. мсье, да, мсье!» Ты говоришь, как маленький дурачок. Стой, я тебя научу обращаться с ножом, целиться в брюхо, вспарывать его так, чтоб вываливалась вся требуха…
— Да, Мак, — с гримасой отвращения ответил Оливье.
Но Мак уже причесался, застегнул воротник, поправил узел галстука, постоял перед зеркалом, засиженным мухами, полюбовался белизной своего оскала, делая при этом обезьяньи гримасы и принимая различные позы. Оливье смотрел на него снизу вверх, не зная, бояться ли ему Мака, восхищаться им или презирать. Тайная радость и странная горечь овладели им. Как будто ему удалось положить Красавчика Мака на обе лопатки.
Когда толстая Альбертина замечала, что по улице идет непохожий на местных жителей человек, отличающийся от них походкой, манерами, одеждой, — словом, какой-то чужеземец, а может турист, поднимающийся к церкви Сакре-Кёр, — она с философским видом заявляла:
— Ну и типчиков тут увидишь, скажу я вам!
Оливье, рассматривая Мака, подумал то же самое. «Ну и типчики есть на свете!» Он посмотрел на фотографию Принцессы Мадо. Совсем незнакомая ему улыбка, какая-то фальшивая — так улыбаются кассирши, когда им приходится быть любезными. Мальчик задумался, действительно ли он ненавидит Мака, но не мог найти ответа. Вдруг, осмелев, он дерзко спросил:
— Я могу уже уйти? — Но тут же быстро добавил: — Ты каид, Мак, ты самый главный каид!
— Еще бы, — проронил тот, поводя плечами. — Пшел прочь, мелочь несчастная, и смотри не забывай, чему тебя учил Красавчик Мак.
Оливье не заставил его повторять это дважды. Бросился к двери, открыл ее, выскочил и стремительно помчался по лестнице, отталкиваясь плечом от стены на каждом повороте, чтоб еще более ускорить свой бег. Подскочив к дверям, за которыми жили его кузены, он попытался пригладить рукой волосы. Жан сразу заметит в нем что-то необычное, а Элоди скажет:
— Откуда этот парень взялся? Нет, он становится просто лодырем, знаешь, его невозможно больше держать. О боже мой! Господи! Дева Мария!
Глава седьмая
Улица, как легкая барка, причалившая к столице, зыбко качалась на волнах событий, воевала с повседневной нуждой, иногда выказывала в своих суждениях настоящую мудрость, а в другой раз только напевала, чтоб позабыть о своих бедах. Но руки перелистывали газетные страницы, люди читали их, качая головой, переходя от тревог к улыбке, от беспокойства к развлечениям, успокаивая, худо ли, хорошо ли, самих себя, ибо мир других, счастливых и обеспеченных, был образцом, недоступным для подражания, хотя и оставался мечтой и надеждой.
Маленькая улица Лаба была как кино для бедных людей, истинный рай для тех, кому жилось неудобно и скудно, место, где все вели себя вольготно и непринужденно, где даже удавалось порой пережить приключение. Считалось, что «улица принадлежит всем и каждому», и это означало — тут можно чувствовать себя как дома. Потомственных парижан в этом квартале было немного, а те, кто проживали в верхней части улицы Лаба, явились сюда со всех концов света: тут были испанцы, итальянцы, арабы, евреи, мартиниканцы, поляки, русские, а также бретонцы, овернцы, баски, которые все еще тосковали по родной провинции, но все они — как чужеземцы, мечтавшие поскорее ассимилироваться, хотя и сохранив свою национальную самобытность, так и коренные жители пустынных французских окраин, — лишь здесь, на этой улице, обретали немного того живительного воздуха, который помогал им существовать.