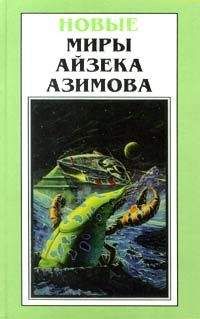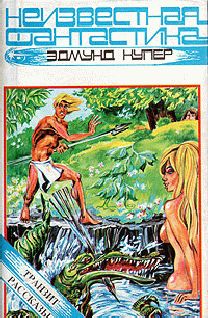Генеральная пауза. Умереть, чтобы жить - Ильина Наталья Леонидовна
Наша Маша смешливая и дурашливая. Лёгкая. Без мыслей особенных. Я дал бы ей тридцатку, но только не тогда, когда она замолкает и смотрит вглубь себя. Тут во что угодно поверишь, но она на глазах стареет лет на двадцать. И вся лёгкость испаряется.
Горбун плюс-минус моего возраста. Хотя кто знает, сколько каждому из нас? Здоровенный мужик, сутулый. Потому и Горбун.
Бес… Бес умный. Чернявый. Вертлявый. Без возраста. И без амбиций. На месте не сидит спокойно, совсем. Даже сидя — притопывает. Ходить с ним — одна мука, у всех ноги отваливаются, а он всё чешет без остановки. Ему больше всех надо знать. Всё. Его бесят непонятки (а их здесь — одна сплошная непонятка).
Не знаю, когда кого заберёт Жуть, но я начинаю к ним привыкать. Может быть, меня первого? Достало ждать неизвестно чего.
***
Блондин придумал карту рисовать! Будем город вдоль и поперёк исследовать, может, выход найдём?
Машка считает, что нас инопланетяне похитили и опыты проводят. Она верит, что выход есть, наивная. Прямо дверь ей. С ключами.
У Беса теорий до хрена, включая и эту.
Горбун думает, что мы попали в ад. Ага, так ему в аду вискарика и нальют. Сидит, хлещет дорогое пойло и с умным видом разглагольствует о чертях и сковородках в виде Жути. Типа, на всех не хватает, и мы тут в очереди… Ага.
У меня вообще нет мыслей на этот счёт. Я пока наблюдаю. Как-нибудь соберу всё в кучу да запишу».
У Дины перехватило дыхание. Она читала дневник Доктора! Того сморщенного неопрятного человечка, который, по словам Алекса, жил здесь дольше всех. Качество печати было ужасным, светло-серые буквы терялись на жёлтой бумаге, но Дина не могла оторвать от неё взгляд. Словно околдованная чужими переживаниями, она почти забыла про свои собственные.
«Рюкзаки упакованы, план похода намечен. Все спят. Бес храпит с присвистом, Машка льнёт к спине Горбуна — широкой и надёжной, как бетонная стена. Горбун не спит. Считает, что разучился. Лежит не шевелясь, лица не разглядеть. Моя свечка даёт слишком мало света. Блондин затих, даже дыхания не слышно. Он частенько говорит во сне, только слов не разобрать. А мне приспичило в туалет, и сон ушёл.
Сегодня иду вместе с ними в первый раз! Так надоело сидеть в четырёх стенах, что я готов тронуться в путь прямо по темноте. Про четыре стены — это не так. Мы живём в помещении кафе «Чайникофф». Вывеска с нелепым названием украшает главный вход, которым мы не пользуемся, а потому он заколочен гвоздями и заложен куском швеллера изнутри, через ручки. Маловероятно, что к нам вломится Жуть. Ей, похоже, гвозди и запоры не преграда, но было бы неприятно, вернувшись, обнаружить следы пирушки скотов, типа Большого Босса (это у него мания величия такая забавная) или другой похожей компании. Эти любят на всё готовенькое являться».
Никаких дат над кусками текста не было. Скорее всего, они шли друг за другом не по порядку. Иногда казалось, что между ними отсутствуют дни, а то и недели.
«Идём на север, в сторону Бугров. Через кольцевую перебираемся уже почти в полдень, тусклое солнце не греет и почти не даёт теней. За всю дорогу встретили только парочку «зомби» — молоденькую девушку, такую худую, что издалека приняли за пацана, и бабку, бодро ковылявшую без всяких тросточек на искривлённых артритом ногах. Ну вот откуда, скажите на милость, я знаю про артрит? Спрашиваю у Блондина. Вместо него с ответом влезает Бес:
— Доктор, когда ты поумнеешь? Тут все что-то знают, только не помнят откуда.
Я затыкаюсь. Спорить с Бесом бесполезно, уж он-то уверен, что знает всё на свете. И непременно — лучше всех. Горбун изредка бледнеет, как будто собирается исчезнуть, но потом проявляется с прежней чёткостью. Все упорно делают вид, что этого не замечают. Я тоже. Делаю вид.
Далеко впереди небо приобретает свинцовый оттенок. Зубчатая линия горизонта, небрежно обозначенная верхушками елей и сосен, выглядит на таком фоне угрожающе.
— Что это там? — нервно спрашивает Наша Маша, уставившись на необычное зрелище.
Горбун останавливается. Смотрит на солнце над головами, на темноту впереди и пожимает плечами.
— Не ночь, если ты об этом.
Бес подпрыгивает от нетерпения, Блондин щурится, прикидывая расстояние, а мне становится не по себе. Чем дольше я смотрю на странное небо, тем больше оно напоминает мне стену. Об которую и лоб расшибить недолго.
— Это то, что мы искали, — не выдерживает Бес. — Конец географии. Выход.
Никто, кроме него, не выглядит убеждённым, и никто — воодушевлённым.
Машка жмётся к Горбуну, снизу вверх заглядывает в глаза, пытается понять, что он об этом думает. Горбун мрачно отмалчивается, но делает шаг вперёд. Машке ничего не остаётся, как отступить и пристроиться рядом. Бес вырывается вперёд и задаёт темп. Мы с Блондином замыкаем процессию.
Лес на горизонте — никакой не лес. Так, обгрызенная лесополоса шириной метров тридцать. Уже на подходе видно неладное — темнота. Если у ближних деревьев ещё светло, то к дальним свет почти не пробивается. И стена чернильной тьмы теперь просматривается над головами отчётливо, нигде не заканчиваясь, хищно протыкая серенькое дневное небо.
— Я туда не пойду! — заявляет Машка и пятится для верности, демонстрируя свою решимость.
— Или все, или никто, — отрезает Горбун.
— Мария! — Бес подскакивает к Машке. — Ты всех ставишь в неприличную позу, ой, прости, в неудобное положение. Мы шли несколько часов, столько же и возвращаться, а ты решила поистерить?
Он приплясывает вокруг не на шутку испуганной Машки, размахивает руками, тараторит и умудряется каким-то чудом не спускать глаз со «стены». Горбун вопросительно смотрит на Блондина, потом, спохватившись, на меня. Пожимаю плечами. Мне тоже страшновато, но не ныть же, как Машка. Блондин сжимает узкие губы, и они пропадают совсем, из чего я делаю вывод, что ему тоже не по себе. Человек-без-рта энергично кивает. Легкая соломенная чёлка вспархивает надо лбом и опадает.
— Пойдём, посмотрим, что за хрень, — резюмирует Горбун и обнимает Машку за плечи.
Она съёживается и почти исчезает в медвежьих объятиях. Бес срывается с места и проносится между деревьев, как ракета. На середине пути он пытается зажечь лампу, возится и бормочет невнятные ругательства, пока мы не подходим. Огонь сегодня гореть не желает. У Горбуна есть зажигалка, но и она только сверкает искрами кремня да вхолостую шипит газом.
Глаза привыкают к оттенкам темноты неожиданно быстро. Мы вываливаемся из леска и оказываемся на ровной проплешине прямо перед «стеной». До неё не больше пяти метров, и она действительно чёрная, сожравшая весь свет и все краски. Тихо так, что я слышу, как дышат остальные.
— Граница, — шепчет Блондин, и я понимаю, почему он не говорит громче — здесь чертовски страшно.
Машка тихо скулит под мышкой у Горбуна, сам он застыл с непроницаемым лицом, плохо различимым в сумраке. Бес подходит к стене первым.
— Ну что, пошли домой?
Он натужно, неестественно весел, и меня пробирает озноб. Хочу сказать ему «отойди», но не успеваю: Горбун, обманчиво медлительный, как медведь, на деле оказывается быстрым, какими и бывают медведи. Он прыгает вперёд и успевает схватить Беса за руку.
— Стой!
— Отпусти, я пойду. Вот увидишь, зайду и вернусь за вами, трусы.
В быстрых, сбивчивых словах Беса нет уверенности, но есть маниакальная жажда. «Стена», «граница», чем бы она ни была, тянет его к себе, и мы все это видим.
Он ловко выкручивает руку из хватки Горбуна и валится внутрь черноты. Исчезает в ней за один миг, в который никто из нас не успевает издать ни звука. А потом любой звук перекрывает его крик, многократно усиленный, словно вопит вся «стена» целиком, от одного невидимого глазом края до другого. Крик пронзает голову. Мучительный. Страшный. Такой, который исходит не из горла, а откуда-то гораздо ниже, из лёгких, из живота, изо всей человеческой требухи, за которой прячется душа. От этого крика мы дружно сбиваемся в дрожащую кучу и смотрим-смотрим-смотрим в чёрную пасть, проглотившую нашего друга. А потом он обрывается тишиной. Глубокой. Окончательной».