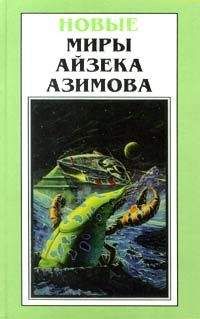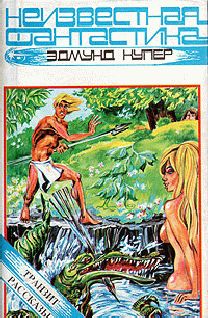Генеральная пауза. Умереть, чтобы жить - Ильина Наталья Леонидовна
Холод проворно окутал ступни, она содрогнулась и опустила глаза. «Я ослепла!» — мысль пронзила, кажется, весь позвоночник, а не только голову. Она не видела ничего, кроме чернильной тьмы.
— Хор-рош-шо? — спросила Тьма, подбираясь к коленям ледяными прикосновениями.
Дина забилась, как пойманная птица, но ноги ей больше не повиновались. Она закричала изо всех сил, но звук завяз во мраке. Не было больше ничего — ни игровой, ни ресторана, ни верха, ни низа. Она падала в бесконечное ничто, беззвучно крича.
…поручни мокрые и холодные. Пальцы стынут. Стынет шея, открытая ветру и брызгам осенней мороси. Упрямое «Пусть! Так всем будет лучше!» — крутится в голове, как аудиоролик на повторе, раз за разом возвращаясь тоскливой мантрой. Дина отклоняется вперёд, насколько позволяет боль в заведённых за спину руках. Страха нет совсем. Есть только маленький червячок сомнения, который и удерживает её на краю балкона — не похоже ли это на предательство? Не похоже ли это на трусость?
«Тридцать», — шепчут губы, и Дина, победоносно отметая мысль о трусости, разжимает руки…
— Ты этого хотела! — проревела Тьма.
— Нет! — закричала Дина и не услышала своего голоса.
Но Тьма услышала, вскинулась холодом к самому сердцу, сжала клещами. Остро, резко, так, что стало невозможно вдохнуть.
— Не-ет! — просипела Дина, сопротивляясь холоду, высасывавшему душу.
— Это была не я, — прошептала из последних сил. — Не я!
Никто не спросил, что именно толкнуло её на край балкона. Ни родители, ни полиция, ни въедливый доктор Брумм. «Почему же он спрашивает? — сердито сжимая губы, думает Дина. — Почему — сейчас?»
Владимир Анатольевич заглянул в палату пару минут назад, предупредил, что Антонина перевезёт её на другое отделение до обеда, и задержался, задумчиво глядя на Дину. Он сунул руки в карманы голубого халата и теперь возвышается над кроватью эдакой молчаливой горой, увенчанной аккуратной, почему-то не голубой, а белой шапочкой.
— Ответь мне на один вопрос, Дина… — начинает он.
Как можно ответить вот так, сразу? Дина беспокойно ёрзает, пытается поправить подушку одной рукой. Заведующий молча ждёт.
Она хмурится, выдыхает и неожиданно для самой себя начинает говорить:
— Сначала это была обида. И страх. Потом — злость. Потом снова обида и снова страх, — честно перечисляет Дина. — Моё лицо, конечно. Я думала, что всем так будет легче. Маме… Конечно, я была полной дурой. Теперь понимаю. И не в родителях было дело, я просто боялась так дальше жить. Мне казалось, что самое ужасное уже произошло и я никогда не стану прежней. Что у меня не будет друзей, родные будут страдать и мучиться, а окружающие — шептаться за спиной или тыкать пальцем.
Дина торопится, слова почти обгоняют мысли, принося невероятное облегчение. Она чувствует себя так, словно разбирает захламлённый дом, впуская в открытые окна свежий ветер и солнечный свет.
— Я просто сбежала, струсила. А потом оказалось, что я сама себя не знаю. Что главное — то, о чём я даже не думала — вовсе не снаружи меня. Оно — внутри. И оно не искалечено, скорее — наоборот, Владимир Анатольевич. И знаете, что я поняла? Я старалась победить обстоятельства, а достаточно было просто победить собственные страхи.
Она смотрит на доктора. Он кивает, очень серьёзно, и мягко сжимает запястье её здоровой руки.
— У тебя всё будет хорошо, Самойлова. Ты — сильная девочка. Я рад, что ты это понимаешь.
— Не я! — из последних сил сопротивлялась Дина, больше не отождествляя себя с той сломанной девочкой на краю балкона.
Хватка ослабела.
— Я — другая! — теперь получилось заговорить.
— Я — живая! — силилась закричать Дина и услышала свой ломкий, полный отчаянной страсти голос, звенящий в ушах почти так же громко, как завывания Тьмы.
Холод отпрянул под дикие вопли и разъярённый шипящий визг: «Ж-живай-я?». Ненастоящее солнце, словно гротескно-большой ночник, вспыхнуло где-то за окном, позволяя Тьме, не исчезая совсем, клубиться у потолка и по углам, разочарованно шипя: «Архш-шах».
Она больше не говорила с Диной, а Дина её больше не слушала. И не боялась. Страх исчез, осталась только уверенность в том, что всё закончилось и теперь ей пора туда, где заканчивается ненастоящий день в этом ненастоящем мире. Она сделала несколько шагов к двери, не сводя глаз с попятившейся девушки-ежа и не замечая остальных, застывших у стены. В полном молчании Дина вышла из комнаты, из ресторана и быстро пересекла террасу. Никто не шёл за ней следом.
Солнце поднялось совсем невысоко и почти касалось красным боком воды у горизонта, когда Дина спустилась на узкую полоску каменного пляжа.
Каталку потряхивало на стыках линолеума. За головой грохнула металлическая дверь допотопного больничного лифта. Дина застонала, не в силах ворочать языком, ошалевшая, одурманенная наркозом, но готовая спрыгнуть с жёсткой каталки и пуститься в пляс: она победила Тьму! Победила смерть! Она — вернулась!
— Тише-тише, — наклонилась к её лицу Антонина, — всё хорошо, детка. Всё хорошо.
«Всё хорошо», — подумала Дина, проваливаясь в забытьё.
— Ну и напугала ты докторов! — укоризненно сообщила ей Антонина следующим утром, меняя раствор в капельнице. — Взяла да и отключилась прямо на столе! Что тут было! Все забегали, дефибриллятор подтянули, а ты вдруг как засипишь! Анестезиолог, Марина Ивановна, решила, что с интубационной трубкой беда, ты хрипишь и бьёшься, пришлось вынимать, а ты ну орать, в наркозе-то! «Я живая!» Потом снова отключилась, расслабилась, еле успели снова интубировать. Господи, никогда такого не видела!
— Правда? — прошептала Дина едва слышно. Голоса у неё не было — что-то приключилось с горлом. Оно болело, словно при ангине.
— Правда-правда, — возбуждённо подтвердила Антонина и, помедлив секунду, напряжённым голосом спросила: — А сама не помнишь ничего, да? Как же ты упасть-то ухитрилась, не помнишь?
Дина повозила головой по подушке, отрицая такую невероятную возможность. Внутри тоненько дрожал смех. Значит, Антонине ничего не грозит. Виновата во всём сама Дина. Вот и хорошо!
— Ну, теперь тебе до ста лет жить, девонька, не иначе, — заключила Антонина и затопала к дверям.
— Ой, забыла! — обернулась она на пороге. — Лёшу Давыдченко из третьей палаты помнишь? Вышел из комы! Подумала, что тебя это порадует, ты ж его жалела.
Она вздохнула, большая, как мама-медведица, и вышла, тихонько прикрыв за собой дверь.
Дина широко улыбалась, глядя, как солнечный зайчик, отражённый от спиц новенького аппарата Илизарова, дрожит на потолке. Было радостно просто от того, что небо — синее, а солнечный свет греет макушку. Никакой унылой пустоты — мир был до краёв заполнен звуками: за окном шумели машины; в коридоре то и дело раздавались чьи— то быстрые шаги; ворчала Зоиванна; что-то металлически бряцало. На тумбочке распускали рулончики бутонов свежие розы, и Дине показалось, что она способна услышать нежный шелест лепестков.
Она подумала о маме. Сначала — о своей. «Досталось ей страха! Хорошо бы до неё не дошли россказни о происшествии в операционной». Потом — о маме Алекса. «Наверно, теперь она сможет себя простить?» Болело горло, ныла, словно распиленная на части, рука, но разве можно было сравнить эту боль с холодом у сердца? Дина улыбалась крошечному пятнышку света на потолке, словно приятелю — ведь его породило настоящее живое солнце!
В палату к Алексу Дину торжественно вкатила Антонина. Ей влепили выговор за происшествие, но не уволили. «А кто работать-то будет?» — пожимала она плечами, рассказывая.
Алекс был один. Всё так же неподвижно лежал на кровати, только аппаратура больше не поддерживала в нём жизнь.
— Спит, — громко прошептала Антонина, подкатив кресло к изголовью. — Он под лекарствами. Можешь побыть недолго, я через пару минут вернусь.