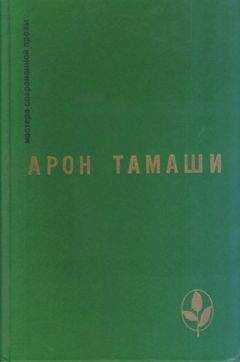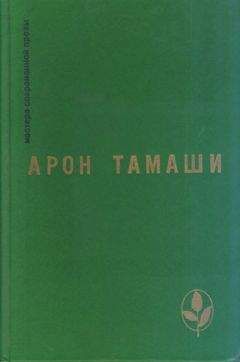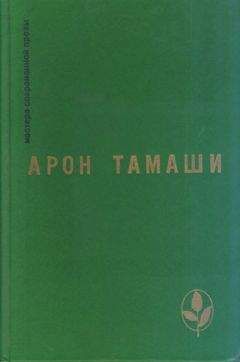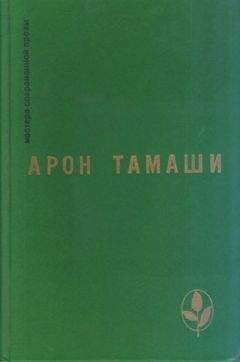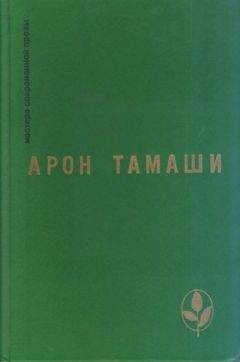Арон Тамаши - Абель в глухом лесу
— Ну а дом этот чего ради стоит? — спросил отец, дослушав мой рассказ.
— Того ради, что ног у него нету, — сказал я. — А были б ноги, давно бы и его, бедняжки, след простыл.
Тут отец, словечка не сказавши, повернулся лицом туда, откуда пришел. И я увидел у него на спине большую и сильно упитанную суму. Отца я, конечно, и без сумы той любил, а уж с сумой — так вдвое! Должно быть, и он про это догадывался, затем и назад повернул — думал меня испугать тем, что с сумою как пришел, так и уйдет.
— Куда ж это вы направились, отец? — спросил я.
— Куда ж, как не в банк середский, — сказал он.
— Зачем?
— А как же! Надо ведь с директором перемолвиться, спросить у него, можно ли в сторожку эту войти.
Ох, как хотелось мне обхватить отца и на своих руках в дом внести! Но и боязно было, что от неподъемной тяжести надорвусь и тогда не то что внести не сумею, но и обиходить, как сыну положено, не смогу. Поэтому я повернул дело иначе: дверь настежь распахнул, попоны расстелил перед порогом, а уж потом обратился к отцу с такими словами:
— Сделайте милость, достопочтеннейший, в дом пожалуйте!
Отец мой тоже всю жизнь любил играть. Вот и теперь он сразу принял вид не простого барина, а важного, сановитого господина: поднял свой посох и, неся его перед собой, словно епископ, величественно, медленно направился к дому. Я поспешно стал у края попоны, и епископ, когда следовал мимо, не преминул осенить меня крестным знамением. Я же низко склонил голову, принимая благословение, и даже бил себя в грудь, приговаривая:
— Исток моей жизни — отец мой, исток моей жизни — отец мой…
— Мог бы себе и получше источник найти, — уже из комнаты отозвался отец.
Я вошел следом, он сбросил на пол суму.
— Мне лучшего источника и не надо, ежели при нем эдакая сума переметная, — тотчас подал я голос и, притворив дверь, подбросил дровец в огонь, чтобы теплом отца родного порадовать. Вмиг на плите стоял уж и котелок со снегом: пригодится вода, верно, найдется в толстухе-суме кукурузной муки немного.
Отец тем временем опять стал такой, как всегда, и даже морозные цветы на усах растопил; оглядел чистый пол и стены, и глаза его малость повеселели. Украдкой же все на меня посматривал, как будто удивлялся чему-то.
— Хорошо хоть не помер ты с голоду, — проговорил он наконец.
— Небось и помер бы, если б не ел.
— Да еду-то откуда брал?
— Какую из земли, а какую с неба.
— А что, у тебя тут и манна небесная сыпалась? — спросил отец.
— Выгляньте в окошко, сами увидите, — сказал я.
Стол у меня получился богатый, и сели мы с ним трапезничать. Отец по привычке нет-нет да и заглянет под стол, хочет собаке либо кошке что-нибудь бросить. Да только не увидел ни той, ни другой.
— А собака-то где же? — спросил он.
— Убежала… зайцев ловить, — говорю.
— Вот что! И одна управляется?
— Только если одна. Иначе-то ей не с руки. Стыдлива очень.
Отцу моему понравилось, что собака у меня скромница. Хмыкнул он и сказал:
— Видать, ты ее в монастырскую школу водил.
— И водить не пришлось, потому как монахи сами сюда жаловали.
— Уж не из Шомьо монахи-то?
— Говорили, оттудова.
Видел я, отец что-то надумал, но угадать не сумел, пока он сам не сказал:
— Через нее можно выгодное дельце сладить.
— Через кого?
— Через собаку твою.
— Через собаку… да уж.
— Верно говорю, — продолжал отец, — за такую стыдливую собаку каноник какой-нибудь, а то и самый главный монаший начальник денег не пожалеет.
Тут я, понурясь, покачал головой уныло и говорю:
— Моей собачке уже не доведется на монахов глядеть.
— Это ж почему?
— Потому что нет ее, хотя, может, где-то и есть она.
И я поведал отцу, как Шурделан запугал и отвадил от дома Блоху; но про то, как она еще прежде глаза лишилась, и на этот раз не сказал. Отец особо печалиться из-за собаки не стал, тем очень меня удивив, но я оправдал его: он-то не знал, какая она была замечательная, моя Блоха! Точно так же вот и с людьми: скольких прекрасных и достойных людей лишаемся мы каждодневно, а все же по ним не горюем, ибо не ведаем, сколь похвальны были их свойства. И довольствуемся куда менее значительными особами, которые живыми проходят сквозь дни нашей жизни. Таков был и мой отец: я тотчас увидел, что ему довольно было б и кошки, коль собаки не стало. Однако, сколько ни озирался он, сколько под стол ни заглядывал, кошки не видел.
— Что, и кошки у тебя уже нет? — спросил он наконец.
— Кошка-то есть, — ответил я.
— Так где ж она, коли есть?
— Где-нибудь в лесу под снегом лежит.
— И ее Шурделан погубил?
— Он. Хотя и не своими руками.
Ну, раз уж мы до этого договорились, рассказал я ему и горестную историю про орла, чтобы с этим покончить. Не опустил и того, как ножища орлиная нас в хворь вогнала.
— Из-за какой-то ноги сразу и расхворались? — спросил отец с насмешкой.
Мне в самом деле неловко стало, что из-за кусочка мяса я так долго не мог с хворью справиться. Ну, и стал расписывать: это Шурделан, мол, всего одну ногу орлиную обглодал, но я-то уж не ему чета, остальное мясо уплел один.
Отец похмыкал, довольный, и сказал так:
— По правде сказать, тебе бы и кости его обглодать и разгрысть следовало.
— Кости? Зачем?
— Затем! Ведь ежели б тебя орел погубил, то собака твоя да кошка и косточки от него б не оставили бы — вот как за тебя отплатили бы!
Я тотчас признал, что отец прав.
— Это сделать и сейчас не поздно, — сообразил вдруг я.
— Ты про что?
— Да про то, что мы с вами на пару быстрее с теми костями управимся.
— Никак на черный день их припрятал?
— Именно что припрятал.
— Где?
— А в лесу, под снегом.
Услышав это, отец не стал, однако, спешить дело закончить.
— Вот и ладно, снег сойдет, тогда и возьмемся за них, — сказал он.
Такое решение и мне по вкусу пришлось: очень не хотелось приниматься за собачью работу! Я уж больше не стал отца подковыривать — пусть за ним и останется последнее слово, ведь он такой долгий и тяжкий путь проделал, заслужил, бедняга, награду.
Наступила томительная тишина, он молчал, словно язык проглотил. Но странное это было молчание, никогда я его таким убитым не видел. Уж я-то отца знал и заранее страшился того, что он собирался сказать. С тоскою следил за каждым его движением и охотней всего убежал бы прочь, но что-то держало меня мертвой хваткой, как когти орла — мою кошку. Наконец, когда мы уже почти управились с ужином, отец достал из сумы две бутылки. Одну раскупорил и налил вина в два стакана, да с верхом. Бутылку отставил, взял в руки стакан. Сколько-то времени, переполненный мукою до краев, смотрел на переливавшийся через край стакан, потом встал и глянул мне прямо в душу.
Не зная сам почему, я встал тоже.
И тут затуманила боль глаза отца моего, и он тихо промолвил:
— Да упокоит милосердный господь бедную твою матушку…
У меня потемнело в глазах: левой рукой я ухватился за край стола, чуя одно: вот сейчас упаду. Ноги в коленях, шея, лицо — все как одеревенело.
— Милосердный господь… да услышит… — выговорил я через силу.
Потом мы опять поглядели друг на друга, поднесли стаканы к губам и выпили до дна.
Только показалось мне, что я пил не вино, а собственные свои слезы. Сделал последний глоток, в груди заболело, и опять все покрылось тьмой. Я поспешно поставил стакан, ухватился за стол и другою рукой, чтоб не упасть. Потом медленно опустился на стул, положил голову на руки и заплакал.
Так сидел я долго, задыхаясь от слез.
Отец оставил меня в покое, не мешал излить давившую сердце тяжесть. Лишь много времени спустя заговорил опять:
— Ну, будет, не плачь, она хорошо померла.
— Ни в чем не нуждалась? — спросил я.
— Я старался все ей доставить.
— И снарядили ее как положено?
— Можно сказать, в наилучшем виде. Словно бы она была барыня, а не жена пастуха.
— И крест в изголовье поставили?
— Твой крестный сам его сколотил, красиво вышло… И тебя приписал, мол, ты тоже оплакиваешь.
— Это он правильно написал, — опустил я опять голову.
Отец вновь наполнил стаканы.
— Выпьем помаленьку еще, — сказал он, — а другая бутылка на мои поминки останется.
— К тому времени вино из моды выйдет, — ответил я ему.
— А что же вместо него в моду войдет?
— Воскресение. Только умрет кто — на другой день и воскреснет.
— Да как тогда узнавать будут: кто мертвый лежит, а кто просто спит?
— А вот как: кто помер, тот уж, верно, на другой день спозаранку встанет; а кто спит только, тот хоть и до полудня полеживать будет, коли другого дела у него нет.
Мы выпили еще, и на душе чуть-чуть полегчало.