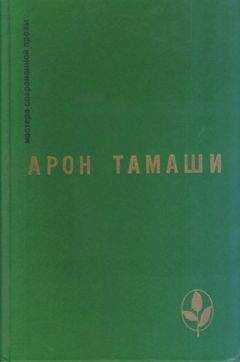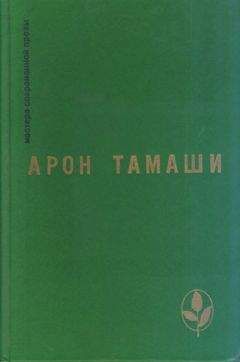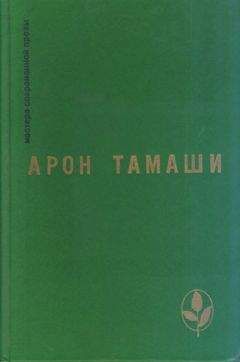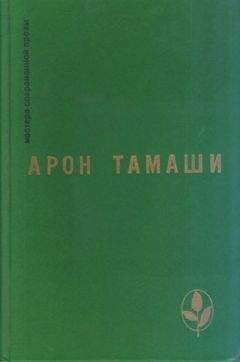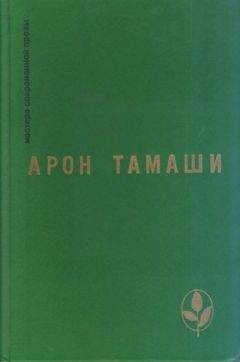Арон Тамаши - Абель в глухом лесу
Чем дольше я прислушивался к голосу, тем больше утверждался в своей догадке, что за дверью стоит Фусилан. И теперь уж струхнул по-настоящему: ведь это я помог словить его осенью! Все мои дрожащие от страха надежды обратил я на Шурделана, за него возносил молитвы господу — только бы он защитил меня от мести этого вора.
Я дрожал точно так, как дрожали брошюрки «Ника Картера» в руке отца настоятеля. Натянул на голову покрывало, чтобы не слышать голоса Фусилана. Сам не ведаю, сколько я так пролежал в ожидании, распятый под тяжелой попоной, но только вдруг чую — вроде бы в доме кто-то есть. Голову высунуть я не посмел, лежал ждал. А тот все возился, шуршал чем-то.
И вдруг отбросил с моей головы попону.
Это был Шурделан.
Он стоял надо мной уже одетый, как бы для сыска, то есть в жандармском плаще своем, с винтовкой через плечо и попоной под мышкой. Увидел я, что он совсем в путь собрался, и, должно быть, такая была в моих глазах мольба, что он вдруг проговорил:
— Ладно, не бойсь, потому как забавлял ты меня здорово.
— Неужели вы уйти собрались? — дрожащим голосом спросил я его.
— Уйти, да. Потому приказ такой вышел.
— Да там-то кто, за дверью стоит?!
— Тот, кто мне приказ доставил.
Больше он ничего не сказал, а только пожал мне руку.
— Ну, гляди же, вперед орлиный мясо не ешь! — добавил на прощанье.
И с тем вышел из дома, но на этот раз дверь за собой прикрыл. Я слышал, как они там, за порогом, поговорили еще, потом под скрип снега унесли голоса свои прочь. Я вскочил, подбежал к окну. И, едва глаза нашли их, я тотчас не только уже по голосу, но и по походке узнал Фусилана. Он был в каких-то лохмотьях, худой, заросший черной бородой до ушей — так и потащил ее над сверкающим белым снегом.
Они шагали медленно, настороженно озираясь, Шурделан впереди, за ним Фусилан. Шли в ту сторону, где стояло мое дуплистое дерево-тайник.
И вскоре скрылись из глаз.
Я опять лег, чтобы хоть немного в себя прийти от страха и откуда-ниоткуда силенок набраться. Так прошло часа два, наконец я встал и оделся. Зарядил ружье, повесил через шею и вышел. Надо было оглядеться и доискаться наконец до тайны Шурделановой. Что-то мне подсказало первым делом к дуплу поспешить, и недаром: в дупле было пусто.
Забрал-таки Шурделан второе ружье!
И тысячу лей, что я в дуле ружья спрятал! Ту тысячу лей, которые за неправедно проданные дрова мне достались — задаток обманщика армянина! Ту тысячу лей, про которую Фусилан и Шурделан ведать не ведают, и, случись им выстрелить, вылетит она, словно пыж!
— Дорогой же будет тот выстрел! — подумал я вслух и пошел дальше.
Вскоре попался мне след, который вел в самую чащу.
Я пошел по следу и минут через десять увидел полянку. Обнаружил там костровище, приметы чьего-то привала. Огляделся получше и вижу: на толстом суку висит на веревке скелет какого-то животного; голова торчала чуть вбок, ободранная, темно-красная от запекшейся крови. Мясо со скелета срезали кусками, было видно даже, как стесывали его с костей.
Я стоял под скелетом повешенного животного и глядел с немым ужасом в полном недоумении, не понимая, что бы все это значило. И вдруг — так бродит в бутылке настойка и нежданно-негаданно вышибает пробку — у меня вырвалось:
— Это ж моя коза была!
Я помчался со всех ног, желая поскорей узнать правду. Дверь сараюшки была в прежнем состоянии, то есть забита досками; так же висела на одном гвозде дощонка, отодранная мной на днях. Я заглянул правым глазом в дырку: коза стояла на том же месте, точь-в-точь как в прошлый раз.
— Це-це-це! — позвал я ее.
Она, как и давеча, не шевельнулась.
Я ощупал себя — не сплю ли я, в самом деле? Поморгал глазами — может, мерещится мне? А может, мелькнуло в голове, свихнулся?
Но нет, все было в точности так, как видели мои глаза.
— Да это какая-то особенная коза! — сказал я себе и покрутил головой. — Череп и скелет на веревке висят посреди поляны, а сама здесь стоит и вроде целехонькая!
Как безумный принялся я отдирать доски; наконец ворвался в сарай, хотел на ощупь убедиться в том, что видел. Схватил козу — шевелись же! — а она так шевельнулась, что в тот же миг и наземь рухнула, будто куль.
Не она то была, бедняжка, а только содранная ее шкура! Сеном набитая, будто живая! А природную начинку, что под шкурой была, Шурделан на жаркое себе пустил!
Так вот она, его великая тайна!
Присел я на корточки в крохотном сарайчике; израненной моей душе представилось разом все долгое время, с жандармом прожитое, и показалось оно мне еще чернее, чем было на самом деле. Он истязал и морил меня голодом, он заставил меня есть вонючее орлиное мясо, из-за него я чуть не отдал богу душу; его подлый стервятник убил мою кошку и выклевал глаз у моей собаки, а сам он прогнал Блоху с ее единственным глазом неизвестно куда; он сожрал мою кормилицу козу и унес ружье вместе с деньгами армянина!
Он… он… ой-ой-ой!..
Я рыдал, слезы катились градом.
Наконец кое-как приплелся домой и рухнул на кровать.
А под вечер постучался ко мне неизвестный господин в шубе и попросил горячей воды. Он рассказал, что недавно приехал из Америки навестить родных, сперва побывал в Удвархее, у старика отца, там нанял автомобиль, чтобы съездить в Середу, к брату — он служит в Середе на таможне. Но только выехали, вдруг заело мотор; пока исправляли, замерзла вода. Так что, сказал, помощи прошу.
И я помог ему, как умел.
Когда же пришла пора прощаться, он хотел заплатить мне за то, что не оставил его в беде, тут я рассказал ему про мое положение, все поведал, как есть, и попросил вместо денег еды хоть какой, коли найдется у них что-то лишнее. Он дал мне вкусного печенья в большой коробке и еще рыбу в красивой жестяной банке. Я, конечно, поблагодарил за все, а он подарил мне на память флажок и сказал, чтобы я берег его, потому как это символ свободы.
С тем и уехал.
Первым делом я поел рыбы, закусил печеньем. А когда нутро свое усмирил, взял в руки флажок и стал рассматривать. Сам же все время про этого венгра американского думал и про его слова, что флажок этот — знамя свободы.
И вдруг меня осенила смелая и великая мысль.
Взял я топорик и зашагал к покрытой снегом дороге. Неподалеку от нее выбрал прямую как струна сосну, взобрался, как мог, высоко, верхушку срубил и вместо нее укрепил на стволе флажок. А когда стал спускаться, все ветки обрубал, одну за другой, чтобы никто другой не сумел залезть на сосну и снять мой флажок.
Я водрузил это знамя с веселым сердцем, с душой, взалкавшей свободы, а еще — на радостях, что освободился от жандарма Шурделана.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Покуда я растрачивал последние силенки на верхушке сосны, пальцы мои совсем застыли, одеревенели. Едва опустившись на землю, стал я их ублажать по-всякому — старушкам-богомолкам и то бы впору у меня усердию поучиться! Уж я и дышал на них, дул изо всей силы, и растирал, и перебирал по одному, и промеж колен согревал. Только все мои старания оказались без толку, хуже того, мороз и за мочки ушей хвататься начал, щипал безжалостно. От боли стало мне мерещиться всякое-разное — крестный ход, да и только! Увидел я отца моего и матушку, и родичей ближних и дальних, и школьных товарищей — вся деревня проходила чередой перед моими глазами. На мое счастье, приметил я в этой толпе господина учителя и тотчас вспомнил мудрый совет:
Если отморозил руки, ноги, уши —
снегом разотри их, нет лекарства лучше.
Стих, оказывается, правду молвил: я хорошенько потер снегом отмороженные места и сразу почувствовал облегчение. Теперь можно и домой податься, чтобы не попасться на глаза ненароком еще какому-нибудь бродячему Фусилану. Но на прощанье я еще раз поглядел на верхушку дерева и сказал громко:
— Ну, флаг, теперь уж сам возвещай свободу, как знаешь!
С тем и отправился восвояси. Шел по заснеженному простору, как, должно быть, Иисус брел когда-то по морю. Трещал мороз, а я шел выпятив грудь и лихо щурил глаза против света. И вспоминал по дороге Яноша Хуняди,[9] про которого учили мы в школе, как он храбро с турками воевал. Турки, те тоже были вояки крепкие, а все-таки Хуняди повсюду их побеждал и везде водружал свое знамя, и потому великая слава досталась ему на вечные времена. А теперь вот и я почувствовал себя вдруг вроде бы как одного с ним роду-племени, ведь и мой Шурделан, уж верно, за какого-нибудь турецкого пашу сошел бы, а я не испугался и с ним сразился, да еще знамя свободы водрузил в знак того, что больше ему моих коз не едать!
Я добрался домой еще дотемна, но решил, не мешкая, сразу и лечь. Хотелось мне, пока еще не тянет ко сну, вдоволь насладиться радостью счастливого одиночества и со свежею головой, но вполне беспристрастно подвести итог Шурделанову владычеству, главным образом того ради, чтобы во всем отдать себе отчет и сообразить, какое поучение могу я извлечь из пережитого на будущее.