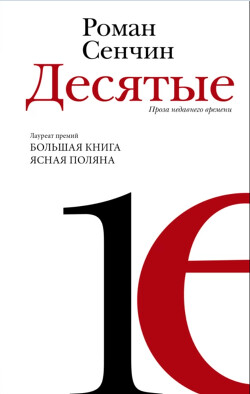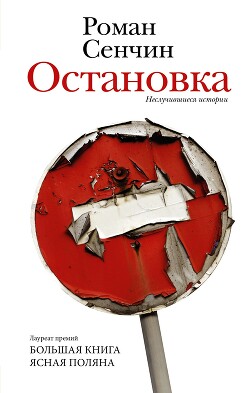Девяностые - Сенчин Роман Валерьевич
– Меня, да, изобразили? – лукаво взглянула на него хозяйка.
– Н-ну, так…
– Хорошо, наверно, получилось… И молоко-то какое, а! Прям козье!
– Почему – козье?
– Густое, аж с желтизной такое… Как у коз…
Прошедшие дни сливались в памяти в комок отжившего, поблекшего прошлого. Зато реальный, сегодняшний день был наполнен маленькими, интересными, знаменательными даже событиями. Появились мухи, они летали коротко, подолгу отдыхали, сидя на нагретых солнцем досках и бревнах… В середине апреля начали надсадно жужжать и пчелы – искали цветы, кружились над ивами, березами, черемухой… В избушке вдруг забегали по полу, вещам сенокосцы и уховертки; Сергей давил их, ожидал увидеть и тараканов – самых привычных насекомых в домах – но их, к счастью, не оказалось.
Весна вроде бы окончательно прогнала зиму, всецело завладела землей. И даже если серело небо, дул ледяной ветер, начинал сыпать снег, то тут же таял, превращался во влагу, и она испарялась, как только солнечные лучи пробивали холодную завесу туч… Воздух прогрелся, вечера стояли длинные и теплые, старушки дотемна вели на лавочках возле калиток свои, порожденные скукой немощи, вялые разговоры. Лишь под утро слегка прихватывало морозцем землю, но уже часов в девять она отходила, становилась сырой, клейкой… Прилетели скворцы, шумно, со скандалами, выгоняли воробьев из скворечников, изучали огороды, таскали перышки и травинки, устраивали гнезда… На полях за деревней надрывались трактора, хозяева перебирали картошку, заранее готовясь к посадке.
Ребятня целыми днями носилась по улицам, играла в свои летние игры, устав за зиму от дома, почувствовав свободу тепла.
– Ванё-оу, иди обедать! – кричит от ворот женщина. – Айда, сынок!
– Не-е, – доносится с другого конца улицы.
– Иди, иди, сынок, готово всё!
Пауза. Женщина стоит, ждет, а Ваня соревнуется с друзьями в ножички.
– Ваня-а!
– Да не хочу я!
– Иди быстро! Поешь, снова выйдешь… Стынет ведь!
Пацаненок не реагирует, его очередь кидать – он целится, примеряется, как бы отхватить у соперника побольше территории.
– Ванька, долго мне еще тут стоять-то, а?! Неча мне делать, что ли, как тебя караулить? Иди сию же минуту! Слышь ты, нет?!
– Не хочу я, отстань! – вскрикивает он; ножик не воткнулся, теперь Ваня наверняка проиграет.
– Если через пять минут не явишься, я тебе так задам! – угрожает мать. – Ванька!
– У-у!..
– Ванька!!
Срывает женщина зло на выбредших за ограду курах:
– Ах вы, проклятые… Опять они здесь! Кыш, собаки такие, кыш! Ну-ка в огород пошли…
Сергей сидит на чурбане посреди убранного, подметенного двора, курит, размышляет. Много над чем надо бы поразмышлять, многое взвесить, решить для себя… Как все-таки жить? Снова этот вопрос не дает покоя, бередит душу, требуя ответа… Если здесь устраиваться основательно и надолго, нужны стройматериалы. Доски, бревна, кирпич, гвозди. Вещей сколько требуется для хозяйства. Нужен вдобавок немалый навык, нужно учиться. Еще этот вопрос о работе – разговор с директором школы, ее предложение… И Надя… Сергей отгонял, давил в себе эти мысли, на их месте появлялась другая, и он, кажется, специально призывал ее, чтоб те заслонились.
Город… Он пытался жалеть, что бросил какое-никакое жилье, место сторожа, друзей, схватил сумки и приехал сюда наобум, отказавшись от того, что имел. Ведь вдруг надумает Кудрин вернуться (или с работой что, или детям решит квартиру оставить, а сам под старость с женой переберется на родину) или продать, и что тогда делать ему… Да и просто привык он все-таки к городу, к городскому укладу и ритму жизни, а здесь медленно, лениво, уж очень однообразно она течет. А с другой стороны – столько неизвестных для него трудностей бытовых появилось. Любая мелочь превратилась в проблему… Нет, кажется, надо возвращаться все-таки в город… И он сам понимал, что искусственно, нарочно распаляет себя, чтобы не думать о другом. О Наде. Отвернуться от самой важной проблемы, которая тянет за собой остальные.
Конечно, видел Сергей, не мог не замечать, как относится к нему эта женщина, какими глазами смотрит; и его тянуло к ней, быть с ней рядом, разговаривать, помогать, подбадривать и в ответ заряжаться бодростью… Когда не видел ее, внушал себе, что и не надо, что лишнее и ложное это его чувство, что она – простая соседка, у которой покупает молоко, а когда приходил, внешне равнодушный и даже враждебный к ее улыбке, глазам, – все внушения забывались, сменялись теплом, нежностью и жалостью. И если Надя приглашала его выпить чаю, он соглашался, а потом не мог найти в себе сил уйти, сидел до ночи, смотрел, слушал.
«Вот встретилась, улыбнулась, сказала парочку добрых слов, показалась симпатичной – и всё, и готов…» Он боялся женщин, сторонился их, как, впрочем, и многие его друзья. Слишком часто они предавали друг друга, слишком тяжелые цепи приносило близкое с ними общение, а тем более – брак. Интересы и образ жизни художников были слишком далеки от интересов и образа жизни их женщин и жен (даже художниц), и, помучавшись, поборовшись друг с другом, они расставались.
И теперь Сергей находился на распутье, пытаясь пойти сразу по двум дорогам – быть художником и быть крестьянином. И Надя, с ее огромным хозяйством, образом жизни, сама она, как женщина, как женщина вообще, обратившая на него внимание, манила его, казалось, каждым своим словом, взглядом звала. Но он понимал, что значит сблизиться, идти с женщиной по одной колее; он имел этот опыт, знал – в конце концов эта колея становится тесна для двоих, и тянет свернуть, сойти и, как и раньше, до сближения, шагать, плестись, ползти по бездорожью, виляя, петляя, что-то ища, ошибаясь и пытаясь от чего-то снова и снова сбежать.
«Ну кто я, на самом деле? Что она думает обо мне… Вот, гол как сокол, явился, живет в брошенном домике, черт знает чем занимается и что умеет… Увидел хозяйственную, нестарую женщину, которая к нему хорошо отнеслась, и решил попытаться сойтись… А если даже сойдемся, что она скажет при первой же ссоре?.. Да и свобода…» И свобода, не какая-нибудь абстрактная, символическая, а реальная, необходимая, когда вдруг надо сорваться и на неделю уйти от всех в лес, в горы, когда нужно общаться с друзьями, с товарищами по тому делу, что считаешь стержнем жизни, и тогда сидишь, не замечая дней, пьешь, говоришь чушь, слушаешь чушь, и она помогает, наталкивает на идеи, двигает вперед…
– Эй, хозяин!
Сергей поднял глаза. Парень в бейсболке, высунувшись из кабины грузовика, поверх забора окликал его.
– Хозяин, гусята нужны, недельные?
– Нет, – мотнул головой Сергей и зачем-то добавил: – А почем?
– Пятьсот. Бери, крепкие.
Что, а если взять пяток? Перерубить эту веревку, которая держит его между деревней и городом, между живописью и землей… Гусята, от них не уйдешь, их не бросишь… И готово было сорваться «да», но в последний момент Сергей одумался:
– Нет! Спасибо…
– А чё? Меньше булки хлеба цена! Гусята резвые, крепкие. Бери, хозяин! – упрашивал парень. – Если больше десяти, то со скидкой отдам!
Что он понимает в гусях? Как их держать, чем кормить? И от них даже на сутки не уедешь… И хотя тут же что-то отвечало: среди людей живешь – помогут, научат, покараулят, – но он не хотел это услышать.
– Говорю – нет… Денег нет.
– Ну, как знаешь. – Парень поправил бейсболку, спрятался в кабине; грузовик дернулся и медленно двинулся по улице дальше.
А Наде некогда было раздумывать и выбирать. Дни летели, растворяясь в постоянных, новых и новых заботах; они были освещены мелкими радостями, перемешаны с частыми в крестьянской жизни потерями, неудачами… Ни одно слово, наверное, не может посоперничать по числу синонимов со словом «работать». Пластаться, пахать, кожилиться, пахтаться, пурхаться, вертеться, биться, вкалывать, упираться, корпеть… У всех у них оттенки разные, и Надя то вертелась: успевала почти одновременно подоить корову, задать животине, покормить детей, отправить Борю в школу; то кожилилась: пристраивала на место сдернутую ветром с гвоздей шиферину, колола ломиком большие комья угля, несла от колонки ведра; то корпела: штопала расползающуюся одежонку, перебирала семена редиски и морковки, разреживала рассаду в ящиках… Заботы убивали, давили мысли, и правильно – мысли утомляют посильнее самой тяжелой работы. Надя всячески отгоняла их, не позволяла разрастаться, опутать себя. Но вот вдруг руки обвиснут, станут чужими, непослушными, и зальет сердце прорвавшаяся тоска, и слезы поползут по щекам… Вечером, когда можно наконец упасть и забыться сном, – не спится. Сидит в темной комнате; вдалеке лает собака (от кого-то, может, гости выходят), напрасно пытаются создать уют старые ходики… Дети, конечно, отрада и счастье, но они часть ее, они слишком ее… И вот-вот плеснутся в ночь упреки погибшему мужу, прожившему легко и разухабисто и так же легко и разухабисто заехавшему на тракторе в пруд, навсегда. «Одна, одна», – сквозь все радости и заботы, сквозь любовь к Боре и Оле, иглами прожигало, рвало ей сердце. Хочется завыть, забиться лицом в подушку, задохнуться в рыданиях. И смотрит она в черноту за окном, и ждет.