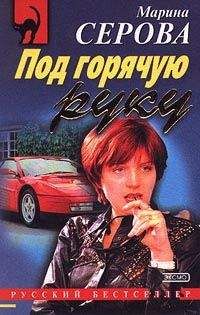Юрий Манухин - Сезоны
За ужином, когда Шурик с пламенным, как помидор, лицом металась от плиты к столу и выставляла на стол не миски — тазы пирожков с рисом и олениной или горы горячих блинов, уплетаемых не иначе как с кижучевой икрой, либо со сгущенкой, либо с вареньем, или же миски, полные зарумяненных кусков нежнейшего осеннего гольца под фирменным соусом «Забудь печаль», начальница усмехалась:
— Придется тебя уволить, Шура: ты мне всю партию разложила. Посмотри на Сорокина — он же сейчас абсолютно невменяем.
И действительно, было что-то патологическое и трагико-комическое в том, с каким наслаждением, с какими лицами и в каких количествах мы пожирали трудом Шуры созданные шедевры.
Но лучше так. По крайней мере за столом не видно было недовольных гримас и кислых рож. Не было уныния. Не было скуки. Воздух в палатке гудел от восторгов, шуточек, баек. Мы были похожи на веселых ненасытных фламандцев времен Тиля Уленшпигеля и братьев Остаде.
А грибов на возвышенной тундре километрах в двух от базы — хоть косой коси! Красными и белыми мы набивали мешки. Тундра в том месте в конце августа была довольно суха. Грибы даже самых гигантских размеров имели непорочное нутро и целиком шли на сушку или жарку, подливы и под маринад. Может быть, мерзлота губила грибного червя?
Окрестности базы в радиусе пяти-шести километров Шура знала как никто. Отряды расходились по своим маршрутам, Шура оставалась на базе одна. В хорошую погоду она с утра уходила собирать грибы, морошку, жимолость. Из собранного делала шедевры. И все для нас, все нам! Себе — ничего.
Для Сорокина она была идеалом женщины.
— Шурочка, бросай своего мужика! — говорил он ей. — Знаешь, лапушка, как бы мы с тобой зажили! Я бы тебе всю получку до копеечки приносил. Даже пиво пить бы бросил!
А она смеялась:
— Да знаю я вас, мужиков. Насулят, наобещают, наплетут вологодских кружев. А потом… Знаю… Не первый год замужем.
И никто до самого последнего времени не подозревал о ее опасной болезни. Даже Оля, которой Шура рассказывала так много.
Забегу вперед. Шура умерла в рейсовом самолете Ли-2 по пути на Магадан. Ее больное сердце не выдержало трех тысяч метров высоты.
Для Сорокина она останется идеалом женщины.
Для меня, для Оли и всех других — славным, хорошим человеком, одним из тех людей, благодаря которым все настоящее незыблемо, как незыблемы диоритовые сооружения мыса Спасения, что на западном побережье Охотского моря.
Правда, незыблемость — она относительна: отделяются от вертикальных уступов мыса огромные глыбы, срываются, падают в море, а вслед им сыплется щебень. Мыс тает, исчезает. Но пройдут сотни тысяч лет, а ядро мыса по-прежнему останется монолитным. Правда, и оно когда-нибудь станет пищей моря. Но сотни тысяч лет вполне достаточно.
Ей был всего сорок один год.
5А во второй половине дня, ближе к вечеру, погода снова подурнела.
Я зашел к Жоре Македонскому покурить. Он жил один в двухместной палатке. Там же стояла и старенькая рация «Север». Жора сидел спиной ко мне, лицом к своему «Северу». Из наушников, висящих на колу, плыли тихие, чуть дребезжащие звуки блюза. В них было много грусти, монотонной и томительной, как ожидание, и сквозь нее проступало светлое и приятное. Жора что-то паял. Я в душе поблагодарил Жору за то, что он нашел в эфире такую хорошую музыку, и за то, что он меня ни о чем не спрашивал.
Но музыка скоро кончилась, и нежный голос японки объявил следующую вещь.
— Это ты? — спросил Жора не оборачиваясь.
— Я.
— Повезло тебе, Громов.
— Ты о чем?
— Оленька — ягодка, цветочек, конфетка, куколка. Хотел бы я убежать вместе с ней в горы. Денька на три.
— Сволочь ты, — негромко сказал я.
Жора пожал плечами.
Обозвав Жору Македонского сволочью, я захлопнул за собой вход и чуть не растянулся в грязи, споткнувшись о растяжку. Выругался — легче стало.
— Осторожнее, а то ты мне дом разрушишь, — услышал я сзади миролюбивый Жорин голос. Я не ответил ему.
Вот ведь паскудная человеческая природа! Ведь знал же, лохматый потрох, как я прореагирую. Знал, что бьет прямо под печень. И ударил. Не пожалел. А за что бил, спрашивается? Боже ты мой, сколько же в нас всякой всячины, замешенной на пакости, на зависти, на хамстве, на себялюбии… Чуть не сказал: «на подлости», но спохватился, потому как подлость — это не про то, подлость — это уже самая предпоследняя инстанция в выяснении отношений, после нее могу назвать лишь убийство. Хотя убийство — это просто низшее проявление подлости: говорят же всегда про убийство с прилагательным «подлое». А может быть, все-таки Жора Македонский поступил подло? Додумаю как-нибудь потом.
Я бы сейчас пошел на берег моря смотреть закат и додумывать. Но в природе опять такая мозглятина, что, не приведи господь, — не только тебе заката — клочка неба не увидишь. Все вокруг затянуло густыми и темными, как гречневая каша, тучами, и сам воздух, кажется, раскис от водяной пыли.
Море отпало. Но видеть никого не хотелось, и я не без удовольствия вспомнил, что у плиты не осталось нарубленных дров.
Лапы кедрача были уложены в кучу, еще не так давно огромную, как стог сена. Ныне она походила лишь на копну. Куча лежала под брезентовым навесом, но это не спасало ее от бокового дождя. Кедрач был мокрым. Я стащил с самого верха сразу несколько лап, положил одну лапу на плаху и, придерживая ее левой рукой, с наслаждением принялся рубить правой, издавая нечленораздельные звуки при каждом ударе.
Будь моя власть, я бы всех пацанов в больших городах заставлял колоть и рубить дрова хотя бы раз в неделю. Даже предмет такой в школах ввел бы. В наш век это одно из немногих чисто мужских полезных занятий, где нужна сила, резкость, точность, подъем. Рубить и оставаться вялым невозможно — не получится. Мужиков, не любящих или не умеющих колоть и рубить дрова, я презираю. Считающие эту счастливую необходимость за великий труд — меня раздражают. Вот Жора Македонский не любит этого дела.
— Оп!.. хоп!.. хоп!.. — от лапы отскочило полешко.
— Оп! — еще одно взлетело, завертелось и шмякнулось рядом, обрызгав меня грязью.
«Жора Македонский (Александрович)…
— Хоп!
радист и техник…
— Оп! Ап!
учился в ЛГУ…
выгнали…
за драку…
— Хоп!.. Оп!
Могучий парень:
бокс…
футбол…
шея как у сивуча…
— А! Ап!
Служил в десантниках…
научился ключом стучать…»
Я стащил еще несколько лап и продолжал махать топором, попутно размышляя о Жоре.
«…Литературу любит
современную…
западную…
— Хоп!.. Хо… оп!
Музыку легкую…
джазовую…
— Оп!
Еще Первый концерт…
Чайковского»
Я вытер пот со лба. Никто не подгоняет. Сел на плаху. Раскурил окурок.
В Магадане Жора очутился случайно. Хотел после армии податься на Сахалин, прилетел в Хабаровск, да пересидел в «Аквариуме» и перепутал рейс. По пьянке залез в магаданский самолет. Прилетает, вылезает из самолета. Брр! Погода такая же, как и сейчас. Сопки давят.
— Ну и дыра этот Южно-Сахалинск!
— Это Магадан.
Очень Жора удивился.
Я снова взял в правую руку топор. Левой схватил кедрачину:
— Хоп… э… эх!., оп!
«Было все равно…
лишь бы…
денежно…
— Хо… оп!
Любит женщин…
Они его…
Тоже…
— Оп!.. оп!
Мой папаша…
Александр…
Македонский…
был великим полководцем…
но зачем же…
— Ооо… хоп!
дрова рубить?..
рюкзаки таскать?..
кашу варить?
Хочу…
говорит…
в космос…
и обратно…»
— О… ах!
Все!
Топор в колоду. Это третья колода за сезон. Две ее предшественницы уже искрошены в мелкие кусочки. Нет, я не в восторге от Жоры! Но добряк. Себе на уме, а добряк. И со мной считается. Резюме: он не подлый, работать с ним в поле можно.
6С огромной охапкой кедрача ввалился я в десятиместку и сбросил дрова к плите.
— До утра хватит! Блины печь будем! И балдеть! — весело объявил я, похлопал себя по животу, схватил две палки и отбил барабанную дробь на печке, но получил в ответ:
— Завтра вам в маршрут. Это во-первых. А во-вторых, я давно хотела вам сказать, Павел Родионович: то вы мне кажетесь серьезным человеком, то будто подменяют вас, и вы напоминаете мне школьника младших классов на перемене. А ведь вам уже за тридцать. И вы уже даже были женаты.
Это было амплуа Железной Генри; вот именно так, ни с того ни с сего выдавать свое мнение по поводу поступков, проступков, достоинств и недостатков любого человека, правда, добавлю, ей подчиненного. Нравится не нравится, извольте проглотить! Можно было бы простить ей и на этот раз, тем более что у меня выработался иммунитет к ее морализмам, но Оля слышала.