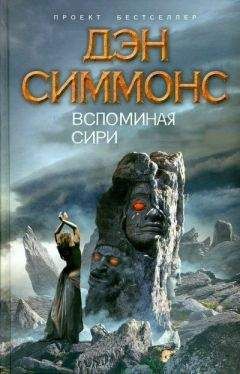Сири Хустведт - Печали американца
Я схватился за голову.
— Так вот, значит, кто была та женщина, с которой Бертон видел тебя в парке!
— Для того чтобы письма были опубликованы, необходимо мое разрешение. После смерти Макса я имею права на все, им написанное, так что их содержание — моя собственность, но письма, сами письма, исписанная бумага, чисто физически принадлежат ей, и она может делать с ними все, что ей заблагорассудится.
— Ну, это не страшно.
— Содержание можно использовать, пересказать, такие вещи уже не раз делались.
Инга поднялась с дивана и подошла к окну. Она стояла ко мне спиной, лица я не видел, но по шее и линии плеч можно было догадаться, в какой тугой узел она себя завязала, как глубоко внутрь загнала свои чувства. Ее тонкие длинные пальцы скользили по оконной раме.
— Я прямо как героиня какого-нибудь дурацкого сериала или второсортного французского романчика конца восемнадцатого века. Все время боюсь, что кто-то полезет в душу. Такая гадость! Одно дело, когда что-то произошло, тут уж что было — то было, и совсем другое, когда об этом начинают судачить на каждом углу, когда твою личную жизнь можно купить и продать, как охапку дешевого барахла, а ты сама принуждена играть неприглядную роль брошенной жены.
Несколько секунд она молчала, прижимая ладони к оконному стеклу.
— Нелепее всего, — сказала она, обращаясь к темной улице за окном, — это внезапное осознание, что я на самом деле прожила совсем другую жизнь. Странно, правда? Мне словно приходится переписывать свою историю наново, изменять все с самого начала.
Последовала еще одна длинная пауза. Вдруг Инга крутанулась на пятках и затрясла сжатыми в кулаки руками. Сведенное яростной гримасой лицо заливала синюшная бледность.
— И в эту историю я, как выяснилось, должна добавить еще как минимум двух новых персонажей.
Инга говорила сдавленным голосом, я догадался, что она боится разбудить Соню. Она снова и снова трясла кулаками, потом отчаянным, безумным жестом схватилась за голову.
Я вскочил и сделал шаг к ней навстречу, но стоило мне попытаться взять ее руки в свои, как она простонала:
— Только не трогай меня, иначе я за себя не ручаюсь.
— Инга… — начал я.
— Это еще не все.
Инга уронила руки, и они повисли вдоль тела. Ее шатало. В глазах была пустота, в голосе звучала незнакомая доселе отрешенность.
— Ой, все плывет, и точки светящиеся. Господи, бедная моя голова.
Она прижала руку к животу.
Я помог ей дойти до дивана, уложил, укрыл одеялом, нашел лекарство и принес воды запить.
— Она утверждает, что у нее сын от Макса.
Несколько секунд я молчал. Еще один ребенок. Сын. Потом спросил:
— Ты этому веришь?
Инга пожала плечами. Нам обоим было хорошо известно, что душевные потрясения могли закончиться для нее приступом мигрени, и сейчас, распластавшись на спине с подушкой под головой, она испытывала истому и облегчение, какие подчас нам дарует только болезнь. Она улыбнулась. Боже, сколько же раз мне приходилось видеть эту слабую больничную улыбку на губах своих пациентов. Я сел рядом, и мы тихонечко разговаривали, неторопливо, полушепотом. Инга рассказала мне, что тут не все чисто, потому что у Эдди одновременно с Максом был еще кто-то. Мне было не очень понятно, почему вопрос об отцовстве возник только сейчас, зачем понадобилось ждать столько лет.
— Она разошлась с мужем, — ответила Инга. — Этого человека в ее жизни больше нет, тут она и вспомнила про Макса.
Сама Инга этих злосчастных писем не видела, копии ей Эдди не показала, о содержании говорила весьма уклончиво, в самых общих выражениях, однако дала понять, что кроме подтверждения самого факта переписки в них было еще кое-что. Я предположил, что хоть эта Фельбургерша и пытается вынюхивать и копать, вряд ли редакция журнала захочет раскошеливаться на их покупку. Архив Макса хранился в Собрании Берга Нью-Йоркской публичной библиотеки, я точно знал, что там для работы с документами даже специалисту требовалось особое разрешение. Про частных коллекционеров мне было мало что известно, и я не мог сказать наверняка, заинтересуют ли письма кого-нибудь из них. Одно я понимал твердо: для Инги в сложившейся ситуации превыше всего был покой Сони.
— Я не переживу, если ей придется страдать из-за этой истории.
Было около половины второго ночи. Инга лежала под синим одеялом, подтянув колени к груди. Ее тонкое лицо казалось изможденным. Пора было спать, но она протянула руку и дотронулась до моего запястья:
— Подожди, Эрик, не уходи. Давай еще чуть-чуть поговорим, только про что-нибудь другое. Знаешь, теперь, когда старый дом продан, я все чаще и чаще вспоминаю наше с тобой детство. Помнишь, как я заставляла тебя играть в принца и принцессу?
— Помню, — кивнул я, чувствуя, как губы расползаются в улыбке. — И также помню, что лет в шесть-семь решил положить этому конец, чтоб никаких больше Белоснежек и Спящих Красавиц.
Инга тоже улыбалась. Лиловые тени, залегшие под глазами, делали их глубже.
— Когда ты был совсем маленьким, принцем была я, а тебя я наряжала как девочку, и ты был принцессой.
— Убей — не помню.
— И больше всего тебе нравилось лежать мертвым, а потом пробуждаться ото сна. Ты был готов в это играть бесконечно. Потом ты подрос и соглашался только на роль принца. И я обожала вот так лежать и ждать, когда меня поцелуют. Конечно, я воображала себе, что целует меня не мой младший братик. Я обожала открывать глаза, садиться. Обожала чудеса.
Инга смежила веки и, не открывая глаз, пробормотала:
— Это так эротично… когда тебя пробуждают к жизни.
Глубокий вздох.
— Спасибо Генри, а то ведь я вообще забыла, что такое любовный угар.
Я ничего не ответил. Слова «любовный угар» несколько раз отозвались эхом у меня в голове, и вдруг я услышал голос моей сестры:
— Мэгги Тюпи.
— Как же, как же, малышка Мэгги Тюпи, славная такая, я помню ее. Они жили чуть дальше по дороге.
— Мы с ней устроили для тебя танец в чистом поле и плясали почти голые, в одних сорочках. Это так будоражило кровь. Мне показалось, я вот-вот описаюсь, но бог миловал. Сколько же мне тогда было? Лет девять, наверное. Помню, как мы носились и кружились, пока не зазвенело в голове и не закололо в боку.
— Я тогда ее поцеловал.
Мэгги Тюпи… Перед глазами возникла копна каштановых кудряшек, разметавшихся среди незабудок, и я вдруг вспомнил голые чумазые коленки под грязной белой сорочкой. Они были усеяны пятнами: зелеными от травы, бурыми от земли и алыми от свежей крови, сочившейся из ссадин, которые никогда не заживали, потому что болячки не успевали подсыхать. Мэгги искоса смотрела на меня одним глазом и изо всех сил сжимала губы, чтобы не расхохотаться, а я все равно хотел поцеловать эти плотно сжатые губы цвета малины, наклонился и приник к ним ртом, коротко, но решительно. Какое это тогда было счастье!
— Мэгги Тюпи, — произнес я.
Инга опустила голову на подушку и прикрыла глаза.
— А помнишь этот день, когда птицы съели наши хлебные крошки? Ты помнишь?
Я увидел землю с неровными пятнами света, пробивающегося сквозь листву. Мы стоим за домом на высокой насыпи, которая уходит дальше, к ручью. Внезапно из кроны дерева у нас над головами с шумом взметывается в небо стая скворцов. Шелест трепещущих крыльев перекрывает журчание воды в ручье, и мы смотрим с обрыва, как птицы пикируют вниз, на дно длинной колеи, где мы с Ингой насыпали для них хлебных крошек.
— Это было похоже на чудо, — пробормотала Инга, не открывая глаз. — Словно сказка стала явью, словно мы с тобой жили в зачарованном царстве, правда?
Я сжал ее пальцы и, помолчав немного, произнес:
— Конечно правда.
Отец снова пошел учиться в колледж Мартина Лютера, на этот раз как ветеран Вооруженных сил США.[49] Ему было двадцать четыре года. Я отчетливо представляю себе, как он сидит вместе со своим другом Доном на концерте хоровой музыки. Сидят они скорее всего на церковной скамье, поскольку концерт проходит в часовне.
Один из номеров, хорал «Приди, день благой», вызвал у меня в памяти череду событий, сперва приятных, но потом шаг за шагом подводивших меня к ужасной картине бессмысленного убийства японского офицера. Меня начало трясти. Дон страшно перепугался. Чтобы успокоить его, мне пришлось солгать и свалить все на приступ малярии. Обычно кошмары мучили меня по ночам, средь бела дня такое произошло в первый и последний раз, но с того дня я жил в постоянном страхе, что это может повториться.
Я перечитал эту запись несколько раз, пытаясь разобраться в том, что же произошло. Этого хорала не оказалось в красном сборнике лютеранских песнопений, который неведомым образом попал на полку моей библиотеки. Возможно, в словах или мелодии был некий намек, ставший отправной точкой для вереницы страшных видений, которые мой отец не мог остановить.