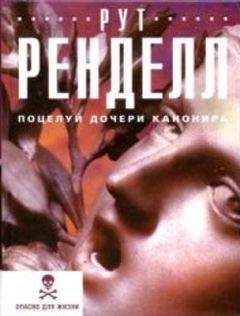Ромен Гари - Цвета дня
— Куча дерьма! — вопил Вилли. — Хотите объявить меня публике, пожалуйста, но только не под эту мелодию, могли бы сыграть хотя бы Баха или Бетховена, поднять это на уровень того, что я делаю, когда у меня не связаны руки! Впрочем, я не допущу, чтобы меня принимали за произведение кого-то другого! Я — свое собственное произведение, и я создал достаточно великих произведений, чтобы не слышать, как меня объявляют под мотив третьесортного фильма, в котором я играю нелепого персонажа, написанного кем-то третьим. Я не допущу, чтобы надо мной издевались!
— Но, месье Боше, это ваш самый крупный успех! — пролепетал музыкант, имевший весьма скромный взгляд на тщеславие, которое он смиренно созерцал из своей маленькой личной мансарды и которым думал польстить Вилли. Вилли побагровел, и потребовалось вмешательство директора заведения, Бебдерна и двух официантов, чтобы он ослабил свою хватку.
— Подождите немного, пока не пришел коммунизм и не смел ваши экраны, — басил он, и в его голосе действительно зазвучало нечто похожее на убежденность. — Подождите немного, покуда они не пришли и не сорвали с вас ваши жалкие мифы и не оставили вас во власти великой наготы. Посмотрим тогда, что вы сможете сделать. Когда вам будут мешать без конца принюхиваться к своей заднице и называть это искусством, вы вспомните, кто без какой-либо финансовой поддержки, практически один, поставил «Короля Лира». Быть может, вы поймете тогда, что Вилли Боше не объявляют под этот мотивчик!
Сцена продолжалась минут десять, и в течение всего этого времени он совсем не думал об Энн. Это было подлинной удачей. Их вежливо, но энергично попросили выйти, и они очутились под аркадами площади Массена.
— Bravo, bravissimo! — возбужденно повторял Бебдерн, поддерживая при этом Вилли, чтобы помочь ему поверить, что он пьян. — А не пойти ли нам в парк аттракционов на борцов? Там происходят изумительные поединки по американской борьбе. Время от времени возникает потребность увидеть настоящего громилу. Нечто действительно реалистичное, прочно стоящее ногами на земле.
Вместе с толпой они дотащились до Эспланады и вошли в палатку борцов. Два огромных верзилы мерились друг с другом силой, обмениваясь ударами пяткой по зубам, и Вилли принялся подбадривать их голосом и жестами, впрочем. впрочем, тут все явно было обговорено заранее; один был светловолосый, в белом трико, и звали его Благородный Джо, другой — ужасно волосатый и смуглолицый, в черном трико, с абсолютно косым и лживым взглядом; звали его Черный Громила, и он все время старался нанести Благородному Джо удары исподтишка, и Вилли сразу же встал на сторону благородства и честности и ужасно рассвирепел на Черного Громилу; в конце концов он попытался проникнуть на ринг и помочь Благородному Джо — при этом Бебдерн цеплялся за его ногу, публика ревела, а Вилли пытался на ходу укусить Черного Громилу за икру, — и здесь тоже их вышвырнули вон, но Вилли проник в палатку атлетов и, когда появился Черный Громила, попытался прибить его стулом. Ему опять помешали, и они здорово вместе накачались; вскоре Бебдерну начало казаться, что Черный Громила в действительности безобидный идеалист, который маскируется, — своего рода преподаватель метафизики, отчаянно старающийся спуститься на землю, и Вилли попытался взять его к себе на службу: он считал, что тот будет хорошо смотреться в зверинце. В конце концов Черный Громила — любовница Благородного Джо — ушел со своим мужиком, а Вилли и Бебдерн очутились на улице под звездами, крайне разочарованные; Вилли взглянул на небо, по-прежнему нигде не было никаких следов Сопрано, и он не знал, как подать тому знак, как внушить ему доверие и призвать на помощь.
— Черт побери, — внезапно вспомнил он. — Ведь две малышки ждут меня в моей постели. Идемте. Вы сможете остаться в спальне и посмотреть.
Он потащил Бебдерна с собой.
— Дорогой кусочек лазури, — пробурчал Бебдерн, — у вас это не получится. Нет такого средства, чтобы выйти из этого, здесь абсолютно звездно и чисто со всех сторон. Мы абсолютно зажаты со всех сторон чистотой. Господи, сделай меня грязным!
Он рухнул на колени посреди площади Массена, но на пешеходном переходе, — не такой уж он был пьяный.
— Господи, научи нас сделаться грязными! Позволь нам спуститься на землю.
Таксисты нетерпеливо давили на клаксоны, но Бебдерн упорно не покидал пешеходного перехода, право было на его стороне, как всегда.
— Люди на земле — как сильный взмах крыльев! — утверждал он полицейскому, который попытался сдвинуть его с места. Вилли стоило неимоверного труда оттащить его на тротуар. Они взяли такси и велели отвезти их в гостиницу.
— Мисс Мур поднялась в ваши апартаменты, месье Боше, — сказал консьерж. — Я подумал, что поступаю правильно.
— Одна?
— С ней еще одна юная особа, месье.
— Потому что нас двое, вы понимаете.
— Понимаю, месье Боше.
Но если Вилли ожидал увидеть во взгляде консьержа некое почтение, то нашел там лишь беспристрастие старого пастуха. Вообще-то люди для него не упрощали вещей. На какие-то секунды перед ним предстала тошнотворная картина мира, превращенного в зеленые пастбища, в котором маленький Вилли по-прежнему ходил в школу, а Сопрано пришпиливал бумажные крылья к пухлым попкам двух розовых ангелочков — его собственного и Бебдерна.
Все слишком чисто, подавленно бурчал Бебдерн. Он испытывал безграничную тоску по дерьму, как будто уже давно ничего не ел. Но он уже так давно мечтает о том, чтобы примкнуть к реальному и таким образом отделаться от некоторого числа невозможных желаний, назовите это, если угодно, братством, терпимостью и чувствительностью, что он даже уже не удивлялся. Консьерж поместил их в лифт со всей осторожностью, которой, как ему казалось, заслуживала их явная хрупкость. Четверть часа они циркулировали между первым и восьмым этажом. Вилли все время пытался подняться, а Бебдерн спуститься. Вилли упорствовал в желании возвыситься над крышей, а Бебдерн опуститься ниже земли, но результат был один: это доказывало, что оба они находились в одном состоянии. В конце концов консьержу удалось остановить их на лету и доставить в номер.
* * *
Они застали малышку Мур в постели за чтением журнала «Вог»; тут же была и юная блондиночка, которая нервно курила и которой мать, должно быть, одолжила по такому случаю свое вечернее платье. Вилли подошел к малышке Мур и поцеловал ее в лоб.
— Папа рад видеть своего голубочка, — объявил он. — Представь меня своей подруге.
— Очень приятно, — сказала блондинка с сильным местным акцентом.
От всего этого исходила такая невинность, что Бебдерн едва не расплакался. Что касается Вилли, то он с серьезным видом раздевался, стоя посреди гостиной. Ему всегда шло электрическое освещение. На его смазливом личике курчавого мальчугана читалось сладкое предвкушение лакомства, какое обычно появлялось у него при виде конфет. Наверное, он был красивым ребенком с длинными мягкими локонами, подумал Бебдерн. Удивительно, в кого только не превращаются дети. Внезапно Бебдерну было видение, которое сродни delirium tremens: ему показалось, что в комнате одни дети. Они заняты тем, что произносят нараспев что-то вроде ам страм грам и кладут в бутылку мух, муравьев, ногти, заливая это чернилами, в твердой уверенности, вероятно, что занимаются магией. Ни разу в жизни он не был свидетелем сцены столь смиренно трогательной, почти пронзительной, из-за желания вырвать у самой пошлой из реальностей признание в волшебстве. Айрис подняла к Вилли улыбающееся и абсолютно чистое лицо — а что еще может предложить человеческое лицо? Казалось, она играет в куклы и поэтому приняла подобающий случаю вид. Что до другой, то та, несмотря на все маменькины советы, явно была огорошена происходящим, чтобы хоть как-то отреагировать; в довершение всех бед она была очень светленькая и кудрявая, и перед Вилли снова возникло тошнотворное видение с зелеными пастбищами и бесчисленными разгуливающими по нему барашками, и он даже начал их считать, чтобы хоть как-то развлечься. Бебдерн какое-то время смотрел на этот Kindergarten,[23] затем прыгнул в сторону и укрылся за креслом.
— Нет, нет, не я, — завопил он фальцетом. — Не прикасайтесь ко мне!
Вилли удивленно взглянул в его сторону:
— Никто вас и не приглашает. Держитесь спокойно.
— У вас не получится, — провозгласил Бебдерн торжественно. — У Гитлера не получилось. Ни у одной полиции ни разу не получилось. Ни у Чингисхана, ни у инквизиции, ни у лагерей с принудительными работами ни разу не получилось. Оно остается чистым! Оно остается чистым! Его нельзя запачкать! Оно остается чистым это челове. лиц. чистым, хотя и непроизносимым!
— Надо же, взгляните-ка на это, — сказал Вилли. — Вы такое видели?