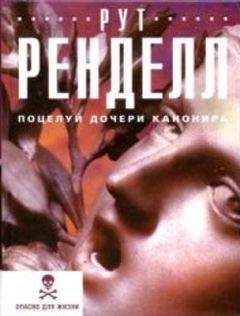Ромен Гари - Цвета дня
— Нет, нет, не я, — завопил он фальцетом. — Не прикасайтесь ко мне!
Вилли удивленно взглянул в его сторону:
— Никто вас и не приглашает. Держитесь спокойно.
— У вас не получится, — провозгласил Бебдерн торжественно. — У Гитлера не получилось. Ни у одной полиции ни разу не получилось. Ни у Чингисхана, ни у инквизиции, ни у лагерей с принудительными работами ни разу не получилось. Оно остается чистым! Оно остается чистым! Его нельзя запачкать! Оно остается чистым это челове. лиц. чистым, хотя и непроизносимым!
— Надо же, взгляните-ка на это, — сказал Вилли. — Вы такое видели?
— Люди на земле — как сильный взмах крыльев. В этот миг я слушаю шум, который производят ваши крылья, Вилли, вот и все. Это тяжелый и плененный шум, но в этом-то и состоит его благородство.
У блондиночки было настолько простодушное и идиотское выражение лица, что она одна могла провалить все дело. Было ясно, что она впервые сталкивается с интеллектуалами — идеалистами. В какой-то миг Бебдерн заметил, как рука малышки Мур нежно гладит затылок Вилли.
— Хе-хе-хе! — торжествующе скорчился он от смеха. — Нежность, нежность, а значит, чистота! Очко в мою пользу!
— Да оставь ты в покое мои волосы! — завопил Вилли, который уже не в силах был вести себя по-мужски в окружении такой чистоты.
— Иероним Босх попытался до вас, и у него не получилось! — вопил Бебдерн. — Ни у гестапо, ни у диалектики, ни у Сибири, ни у реализма, ни у стахановского движения, ни у Форда, ни у Пикассо, ни у сюрреалистов, ни у кого не получилось. Оно остается чистым, полностью чистым, и никто ничего не может с ним поделать. Нет, бедный малыш Вилли, не тебе с твоей задницей преуспеть там, где потерпели крах Гитлер и «цель оправдывает средства»! Оно остается чистым, оно остается чистым!
Он прыгал вокруг кровати, показывая нос Вилли или тому, что оставалось от Вилли, похожий на маленького бесенка чистоты — а других и не бывает, — выскочившего из своей коробки, тогда как блондиночка, считавшая их пьяными, силилась всем своим видом показать, что она утонченная штучка и не раз видела такое на вечеринках, а Вилли тщетно пытался засунуть в бутылку ящериц и крысиные усы, змеиную кожу и чернила, и мышиные хвостики, и кроличьи лапки, и все это залить слюной; Сопрано по-прежнему не показывался, колдовства не было, и зло выглядело как маленькая кухонная спичка, пытающаяся бороться с адом чистоты. И у Вилли не то что не получалось не думать об Энн, а напротив, он все время о ней думал.
— Нет, Вилли, — жужжал Бебдерн. — Никакому угнетению это ни разу не удалось, никакому преследованию, ни концентрационной вселенной, ни материалистическому бреду. Подумайте, какие шансы могут быть у вас с вашей малюсенькой задницей! Вы ничего не докажете.
— Произведение искусства ничего не должно доказывать, — заявил Вилли с достоинством.
Он поднялся. Блондиночку внезапно озарило. Они наверняка экзистенциалисты. Она удивилась, что не догадалась раньше. Это ее настолько успокоило, что она тут же заснула.
— Вот видите, — ликовал Бебдерн, указывая на нее пальцем. — Она даже засунула большой палец в рот, прежде чем уснуть: невинность, показывающая вам рожки.
Вилли начало казаться, что вот-вот вернутся их родители и спросят, как это случилось, что они еще не спят. Айрис, сидя в кровати, как благоразумная девочка завязывала свои длинные черные волосы, и, быть может, это и вправду было благоразумием, и то, чего не знает о жизни детство, — ну что ж — нужно постараться это забыть. Он подошел к кровати, и Айрис улыбнулась и подвинулась, освобождая ему место.
— Я лягу спать на диване в гостиной, — сказал Вилли. — Я храплю. Пожелай спокойной ночи своему братику.
Он поцеловал ее в лоб.
— Вилли? — Да.
— Это правда, что ты собираешься вырезать меня в «Джульетте»?
Вилли просто остолбенел. Так она знала, но за весь вечер даже не обмолвилась. Она ему улыбалась, во взгляде — никакого упрека.
— Возможно, я еще не уверен.
— Неужели я действительно так плоха?
— Нет, я не могу тебе сейчас объяснить, это очень сложно…
Он позволил себе небольшую импровизацию. После ему будет лучше спаться.
— Энн — ревнива. Она боится меня потерять. Но это не единственная причина. Я еще не принял решения… Но ты знаешь, как она… — Он пожал плечами. — Она всегда жила в страхе перед соперницей, перед разлукой.
На эту ночь достаточно, решил он. Ему казалось, что он принял успокоительное. Бебдерн разглядывал его с явным почтением:
— Можешь это сделать, Вилли. Я не стану на тебя сердиться. Поступай как знаешь… Это ничего не изменит.
Бебдерн встал и прошел в гостиную с чувством, что он все же познал любовь. Он был раздосадован. Можно спокойно присутствовать при оргии, но не при сцене нежности, не при словах любви. Вот это было непристойно. Вот в этом было полное отсутствие стыдливости — мужской стыдливости, разумеется. Это было недостойно джентльмена. Вилли тотчас же к нему присоединился — он не хотел оставаться с малышкой наедине, — но Бебдерн надулся на него, и Вилли потащился к Гарантье проверить, нет ли у того виски. Он нуждался в обществе. Гарантье не спал. Он сидел в кресле, под лампой, с пледом на коленях, и читал. Вилли взял у него из рук книгу.
— Любовные сонеты, — констатировал он. — Петрарка, Так, так.
Но Гарантье вывернулся с привычной легкостью.
— Надо знать своих врагов, — объяснил он. — Весь мир не прав, что не читает «Майн кампф» и не принимает эту книгу всерьез. Это помогло бы избежать немало страданий.
Вилли пробурчал что-то непристойное. Рассвет начинал проникать в комнату, но в компании с Гарантье он напоминал сумерки. Вилли хотел было рассказать ему про Сопрано, но не решился. Об этом нельзя было говорить со взрослыми. А ведь Гарантье не казался совсем реальным, совсем земным, в нем, несмотря ни на что, было что-то призрачное и стилизованное. Он не раз помогал Вилли убежать, просунуть голову наружу, по ту сторону, в мир, полный силуэтов в цилиндрах и черных птиц, мир, где никогда не переставала играть скрипка Паганини; его присутствие звучало странной нотой, которая не запрещала мечтать. Вилли какое-то время наблюдал за ним, засунув палец в нос; серые краски, японская прядь, длинные тонкие пальцы — его легко было представить в бутылке, с Вилли, мухами, хвостом скорпиона, рыбьей чешуей, крысиными усами и всем, что требовалось. Бутылка была хорошо закупорена. Он встал, взял бутылку, вернулся в свои люкс-апартаменты. Бебдерн спал с открытым ртом, свернувшись калачиком на диване. Вилли требовалось общество. Решив спуститься к консьержу и провести ночь слушая истории, он вышел, унося с собой бутылку. Он встретил консьержа на лестнице — но он тоже не любил маленького Вилли.
— Выпьем по стаканчику?
— Мне очень жаль, месье Боше, я не пью. И я вынужден попросить вас не оставаться в таком виде в коридоре.
— А что, на мне кальсоны, — обиженно сказал Вилли.
Он вернулся к себе, какое-то время походил кругами по комнате с бутылкой в руке; если бы только можно было укрыться в мультипликационном фильме, то стало бы уже гораздо лучше. Был один персонаж, которого он особенно любил: Майти Маус — мышонок в золотом шлеме и облаченный в пурпур, который в последний момент всегда приходил вам на помощь на борту реактивного аппарата и который наказывал предателя и исправлял положение. Он проскользнул в спальню: Айрис спала в ореоле своих черных волос, распахнув объятия. Вилли заколебался, но никто не смотрел на него. Он взял ее руку, поцеловал ее, прижал к своей щеке. Энн, подумал он, Энн… Он почти сразу же заснул, и ему приснилось, что он улетает.
IVСам процесс одевания делал ее похожей на старательную девочку, и когда она, застыв, размышляла над чулком, по которому пошла стрелка, или когда, заведя руки назад, сражалась с застежкой бюстгальтера, или когда тянула вдоль бедер свои белые трусики, казалось, она добросовестно делает то, чему научила ее мать. Ее волосы свешивались то на одну щеку, то на другую, и он пытался увидеть одновременно и ее ноги, и ее носик, и ее щиколотки, и ее руки, и ее плечи и глупо улыбался всему этому, лежа на животе, пока она ходила взад и вперед по красным каменным плитам, на которых ее ступни оставляли запотевшие следы. Он смотрел и не верил, как талия может быть такой тонкой; и вот он уже чувствовал, что к нему возвращается рука, у него снова было две руки; бедра у нее были узкие и гибкие, как весенние ветви, когда их можно согнуть пополам и они не сломаются, и она заметила его взгляд, безмолвно и пылко умолявший ее, и подошла к нему, чтобы лучше прочесть то, что он говорит.
— Я тебе верю, — сказала она ему серьезно.
Но когда она оставила его одного и начала потихоньку одеваться, он не смог этого вынести, встал, подошел к ней и сначала раздел ее и только затем помог ей раздеть себя, пока снова не стало хорошо. И когда у него осталась только одна рука, он продолжал лежать, уткнувшись ей в шею, слушая воцарившийся покой. Затем он открыл глаза и увидел на склонах горы розовые, желтые и белые виллы, разбросанные, как остатки какого-нибудь празднества; он закрыл глаза и ощутил лбом и губами ее шею, и был еще мистраль, залетавший в окно с запахом мимозы, но он прогнал его и снова ощущал лишь ее живую шею своим лбом и губами, и уже было некуда идти.