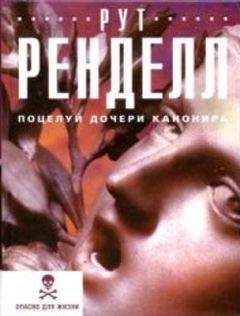Ромен Гари - Цвета дня
— Я тебе верю, — сказала она ему серьезно.
Но когда она оставила его одного и начала потихоньку одеваться, он не смог этого вынести, встал, подошел к ней и сначала раздел ее и только затем помог ей раздеть себя, пока снова не стало хорошо. И когда у него осталась только одна рука, он продолжал лежать, уткнувшись ей в шею, слушая воцарившийся покой. Затем он открыл глаза и увидел на склонах горы розовые, желтые и белые виллы, разбросанные, как остатки какого-нибудь празднества; он закрыл глаза и ощутил лбом и губами ее шею, и был еще мистраль, залетавший в окно с запахом мимозы, но он прогнал его и снова ощущал лишь ее живую шею своим лбом и губами, и уже было некуда идти.
— Жак. — Да.
Она что-то сказала, он не расслышал что, и она заговорила снова, и он сказал: «Я люблю тебя» и уснул, затем проснулся; за это время они так и не пошевелились, ни один, ни другой, и он по-прежнему ощущал ее руку у себя на затылке» но виллы на горе были теперь совсем голубыми, подернутыми серо-голубой дымкой, и он видел ее профиль, лежал у нее на плече и видел ее профиль, — ее голова была слегка запрокинута назад, она курила сигарету, полуопущенные ресницы, очень прямой нос обрывался как раз тогда, когда собирался задраться вверх, — и он смотрел на два уголка губ, где жила ее улыбка. Он оперся на локоть и поцеловал ее волосы, и это поистине был один из тех моментов, когда у вас все есть.
— Завтра мы встанем, — объявила она. — Прогуляемся по деревне. Обещаешь?
— Обещаю. Нельзя держать все это при себе. It's Harding [24], как говорят англичане. У меня такое чувство, будто я захватил три четверти земного счастья. Мы прогуляемся. Это доставит им удовольствие.
— Почему?
— Они южане. Нужно, чтобы и им перепало. Все чесночные страны такие. В чесночных странах когда видят счастливых людей, то испытывают такое ощущение, будто и сами что-то приобрели.
— А в бедных бесчесночных странах?
— В бесчесночных странах когда видят счастливых людей, то чувствуют себя обворованными.
— По сути дела, ты ксенофоб, как и все французы, — заключила она. — Но в любом случае завтра нам нужно встать.
При одной только мысли об этом они еще сильнее прижались друг к другу.
— Мне бы хотелось навсегда остаться в Провансе, — сказала она.
Он вспомнил оливковые поля такими, какими их видишь из Бо, когда садится солнце и тени устремляются вниз, но взгляд отказывается уступить им равнину, и Франция — как рука, которую держат в своей руке и не хотят отпускать. В последний раз он видел их с Луи Жуве, а теперь вот Жуве умер, но пейзаж по-прежнему здесь, так что все в порядке.
— Я проголодался.
— Пойду посмотрю, что у нас есть, — сказала она.
Она встала, надела спортивный костюм и свитер, которые он ей одолжил, и он рассмеялся, увидев, как его белый свитер Королевских военно-воздушных сил на старости лет украсился двумя маленькими острыми грудями.
— Помочь тебе?
— Нет, все в порядке. У нас еще есть салями, козий сыр и салат из помидоров.
Они сели за стол, покрытый красной клетчатой клеенкой, не зная даже, утро сейчас или вечер, первый день или последний; когда они приоткрывали дверь, то находили на ступеньках пакет с продуктами, — сама домработница никогда не показывалась, ее предупредили соседи. Ну много ли найдется мужчин, которым повезло и они могут вот так жить, думал он иногда и тотчас старался не уступать и сохранить достоинство, которое состоит в том, чтобы быть счастливым вопреки всем законам жанра, сохранить достоинство свободного и непокорного человека; но вот однажды он услышал свои собственные мысли: как бы там ни было, я здесь лишь на десять дней, а это примерная продолжительность оплачиваемого отпуска, который полагается каждому французскому трудящемуся, меня, право, не в чем упрекнуть, это даже на пять дней меньше, чем оплачиваемый отпуск, на который все имеют право. Но осада продолжалась, это просто был голос всего пуританского и извращенного, пытавшегося таким образом испортить все источники здоровья, пытавшегося коварно похитить его достоинство, пытавшегося кастрировать его. Но все же ему пришлось прильнуть к губам Энн, и там он вновь обрел смысл своего благополучия и достоинство быть счастливым вопреки всем уловкам и проискам врага, вопреки всем силам обскурантизма и закабаления.
— Жак…
— Что?
— Спи.
— Пожалуйста.
Мои губы отлетели вместе с моими поцелуями, стертые, унесенные ими, погасшие. Едва касаясь, они ощупывают твою шею, и кто-то вздыхает, и я не знаю, ты это или я, кто — то — это другой, я не знаю, какой из двух. Мы — одно целое, у меня такое чувство, будто я почти один, и даже когда ты шевелишься, я чувствую не тебя, а место, где я кончаюсь. Твоя рука еще в моих волосах, но это забвение. Наши губы еще вместе, но рты наши уже больше нуждаются в воздухе, чем в поцелуях. От ночи исходит благоухание мимозы, и я пью его полной грудью — а ведь оно не ты. Моя рука еще касается твоей груди — но это ласка, недостойная ее. Однако я отказываюсь сдаваться. Отказываюсь заканчивать. Отказываюсь уступить законам жанра, нервам, сердцу, крови; закон может заставить меня уснуть, но ему не помешать мне видеть тебя во сне. Я жалею лишь о том, что мне не хватает таланта. Людям не хватает таланта. Ни у кого его никогда не было. Все, на что мы способны, так это заполнять музеи, возводить соборы, строить дамбы, сочинять симфонии: Петрарка, Шекспир, Данте, Фидий, Микеланджело… Скульпторы по камню! Но что же такое талант, если никто ни разу не воплотил его в поцелуе на губах любимой женщины? Подвинься ближе. Я знаю, ты не можешь, и все же придвинься ближе. Еще… Так. Ничего страшного: подышим потом. Вот так. Пусть теперь нам с тобой вдвоем будет недоставать таланта.
Жак…
Не зови меня. Не произноси моего имени. Можно подумать, нас двое.
Жак, ты все-таки уедешь?
Нет, дорогая. Я уже не еду, решено. Я спрячусь. Сменю имя, выберу другое, мирное имя, чтобы счастливо жить инкогнито, этакий псевдоним, чтобы любить, и отныне я буду откликаться только на это имя, и оно будет известно только нам двоим. Я не отвечаю больше на призыв: пусть себе орут. Меня здесь ни для кого нет, мои добрые друзья, и если меня будут спрашивать, вы скажете, что месье нет дома: он счастлив… Энн, цыпленочек мой, что я такого сказал, почему ты плачешь?
Оставь меня.
Ты сердишься на меня?
Не шути с этим. Я точно знаю, ты все равно уедешь.
Я объясню тебе. Объясню. Ты увидишь. Поймешь.
Нет.
Как нет?
Я никогда не пойму. Но это ничего. Когда нам выпадает счастье любить кого-то, нам почти всегда выпадает несчастье любить его таким, каков он есть. Тут ничего не поделаешь. Таков закон.
Ближе к середине ночи он зажег свет.
Она выглядела такой хрупкой и забытой, и казалось, будто вся она умещается в своих темных волосах. Там спали в тепле глаза, нос, подбородок, ухо.
Хотелось потихоньку вынуть их один за другим и поднести к своему лицу, прикоснуться к ним щекой, потрогать нос своим носом, нежно потеревшись, а затем положить на место так, чтобы не разбудить маму.
А на рассвете он снова проснулся, и улыбнулся ей, и опустил голову в том древнем жесте, который всегда подталкивает мужчину уткнуться лбом в то, что он обожает.
VОн запер дом на ключ, и они спустились по двадцати ступенькам, что ведут на улицу Пи, миновали фонтан, пытавшийся скрыть свою фривольность под почтенным видом римских цифр, пошли по ступенчатой улочке, делавшей при каждом повороте каменный реверанс — при этом ступеньки подметали землю, как складки тяжелой драпировки. В нишах над дверями виднелись резные мадонны; они двигались вперед в тени улочки, прижавшись друг к другу, медленно спускаясь по ступенькам, и на каждом повороте им встречался неотступно следивший за ними синий взгляд моря. Возле фонтана спиной к стене стоял человек, на нем была белая панама, которая лишь подчеркивала синеватую тень его щек и странное отсутствие взгляда в глазах, казавшихся двумя щелями с застывшей жидкостью; в руке он держал пакетик с арахисом, откуда брал орешки и раскалывал их пальцами; сбоку от него стоял, прижимая к глазам бинокль, некий господин, одетый с величайшей элегантностью; трудно было понять, что именно он рассматривал: пейзане, остановившуюся на ступеньках и целовавшуюся влюбленную пару или какое-то знамение в небе. Они миновали их, и барон быстренько приподнял свою шляпу, а затем уже снова стоял, чопорный и безучастный, с изысканно изогнутой бровью, всем своим гордым видом как бы громогласно возвещая о выживании некоего бессмертного феникса — достоинства человека, стойкой чистоты его рук, отказа склонить голову перед унизительными и абсурдными законами — или о какой-нибудь другой подобной глупости. У Сопрано не было сомнений на этот счет. Разумеется, барон никогда не выражался открыто, но Сопрано все же был хитрее, чем воображал себе его друг. Он понимал, и все тут: для этого не требуется образования. Случалось даже, он возмущался той проповедью, которую барон непрерывно обрушивал на его голову, хотя тот ни разу не открыл рта. Может, он был расстриженным кюре. Сопрано, конечно же, был католиком, но не любил, чтобы ему вот так, с утра до вечера, читали мораль. Случалось также, он задавался вопросом, уж не является ли барон чересчур ловким сыщиком, подосланным итальянской полицией. Я его брошу, вот что я сделаю, решил он. Но от одной только мысли об этом его гнев разом пропал, и он бережно взял барона под руку: