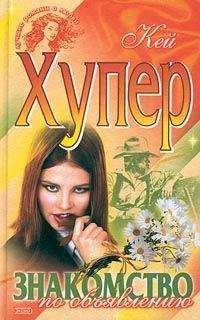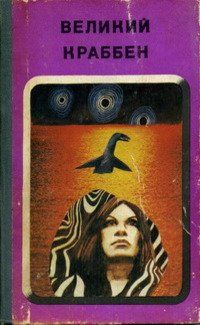Владимир Бартол - Против часовой стрелки
— Только не руками, папа, ты выбьешь мне зубы.
На столе лежала выбивалка для ковров. Я бил ее, бил до тех пор, пока к глазам не подступили слезы. Тут я взвыл, как волк, убежал к себе и зарылся лицом в одеяло.
На рассвете, проснувшись, я пошел к Эле. Она лежала одетая на застланной постели, скрестив на груди руки. Она загораживала ими лицо от моих ударов, они опухли и покраснели. В широко открытых глазах ни единой слезинки. На меня она не взглянула. Она знала, что я снова приду. Я подошел к гардеробу, распахнув его, спросил:
— Где его одежда?
— Он приходил за ней, — ответила Эла.
— Когда?
— Когда тебя не было.
— Неправда. Куда ты спрятала его одежду?
— Он приходил за ней.
Как же я раньше не вспомнил? У меня было бы его удостоверение.
— Куда ты спрятала его одежду?
— Он приходил за ней.
— Как его фамилия? Кто он?
— Не знаю.
— Не знаешь? Спишь с незнакомым человеком?
— Да.
Я обшарил всю квартиру и весь дом, — его одежда словно сквозь землю провалилась. Три дня из-за побоев она не ходила в школу. Лежала одетая, вперив взгляд в потолок. Отказывалась есть. На меня не смотрела, она ненавидела меня. Ненависть заменяла ей пищу. Я шатался по городу, сторонился людей, пил и спал. Через три дня Эла начала ходить в школу и есть, жизнь наша внешне пошла как прежде. Но только внешне. Говорили мы лишь о самом необходимом. Коротко и ясно. Приказав ей строго-настрого к девяти часам быть дома, я с головой ушел в работу. Она варила мне кофе и, не глядя, ставила передо мной. Чувства стыда она не испытывала. Напротив, в ней была какая-то незыблемая уверенность, величавое спокойствие праведника, презирающего своего мучителя, и даже, как это ни странно, своеобразное достоинство. Она как бы возвысилась надо мной, но меня это не рассердило, нет, скорее поколебало мою веру в непреложность насилия. Однако, вспоминая стройную фигуру с ножом в руке, я приходил в такое бешенство, что с наслаждением воспроизводил в своей памяти стук его костей об пол. Но самым поразительным было то, что я никак не мог представить себе его лицо. Все затмевала его нагота — тело без лица. И самое ужасное — нагота Элы. Я терзал себя до тошноты. Моя кровь, моя плоть. Чтоб я еще когда-нибудь имел женщину! Лучше умереть. Я проклял все свои страсти. Проклял устройство человеческого организма. Плавая в поту, я с почти маниакальным ужасом вспоминал то, что у меня было с Сеней. Сердце душило, потом ненадолго отпускало, я засыпал в кошмаре, и тут же приходили омерзительные сны. Тело жило по своим законам. Я просыпался с отвращением к самому себе, плюхался на пол, лежал долго, неподвижно, твердея от холода, мечтая заболеть. Но наши мечты не исполняются. Мне хотелось умереть. Бежать. Но ничего такого я не сделал. И Эла не сделала. В конце полугодия она не дала мне табель. Я сам взял его в ее портфеле. Обе двойки были исправлены. Раньше она прибежала бы ко мне на работу с этой вестью. Сейчас даже не показала табель. Она по-прежнему чистила мне ботинки, гладила брюки, готовила завтрак. Но разговаривать не желала.
— Я видел твой табель, Эла.
Молчание.
— Ты исправила обе двойки.
Опять молчание. Даже головой не кивнула.
— За это я купил тебе часы. Восемнадцать тысяч. Чтоб в школе над тобой не смеялись.
— Спасибо.
Тут я не выдержал и влепил ей пощечину. Она взглянула на меня с удивлением, разрыдалась и убежала в свою комнату. Ошарашенный, я пошел за ней, но на все мои попытки поговорить она отвечала:
— Оставь меня, оставь меня в покое, уйди, пожалуйста, уйди.
Я ушел. Будь жива ее мать, я бы через пять минут знал, в чем дело. Атак… Одно хорошо — сразу заплакала… конечно, если уже не плакала без меня. Как же нам быть дальше? Часы валялись на полу. Я их не бросал. Эла тоже не бросала. Как они там очутились? Я поднял их и положил на стол. Может быть, и часы с отчаяния падают на пол?
Вечером того же дня я сидел в кафе «Европа». Теперь я припоминаю, что несколько раз я ловил на себе пристальные взгляды молодых людей, сидевших за соседним столиком. А когда я случайно взглянул на них, то не заметил на их лицах ничего, кроме полного безразличия. Я расплатился и ушел. У самого перекрестка кто-то догнал меня. Амон. Он шел в одном со мной направлении. Пошли вместе. Фонари, освещенные витрины. Яркие неоновые трубки. Неприятное мигание испорченной световой рекламы. Амон возвращался с репетиции в театре. Комедия. Люди любят веселые представления. Сейчас он торопится домой. У сына день рождения. Небольшое торжество в узком семейном кругу. Неужели еще где-то существует семейный круг. Разумеется, существует, почему бы нет? У Амона двое сыновей. Пятнадцать и семнадцать лет. Его беспокоит младший. Бледный, замкнутый, интересуется только книгами. Вечно воспаленные глаза, читает до поздней ночи. Спорт не любит. В школе есть танцевальный кружок, но ему никак не втолкуешь, что и танцы нужны в жизни. Учится средне. Учителя считают его странным мальчиком. Старший, у которого сегодня день рождения, вот тот спортсмен. Природа и спорт. Удивительное дело — двое детей от одних родителей, а такие разные. Старший к тому же очень практичный. Летом поступил на бензоколонку и заработал хорошие деньги. Первое теплое дыхание в городе. Тают сугробы. Кругом лужи, слякоть. Раньше улицы чистили. И парни раньше были другие. Что правда, то правда. Парни теперь совсем другие. Бросаются с ножом на отца несовершеннолетней дочери, когда отец застает их у дочери в постели.
— Ну это уж ты слишком, — сказал Амон.
— А вот и нет. Такое случилось с одним моим знакомым. Да, нож. Молоко на губах не обсохло, а уже распутничают.
— Мой старший еще ни разу не приходил домой после одиннадцати. Всегда дома, разумеется, если не идет в театр. Спортсмен. Не пьет, не курит. Я хорошо их воспитал. Воспитал? Как бы не так. Это они воспитывают меня. Сам знаешь, я не дурак выпить. Они подсмеиваются надо мной, а в последний раз старший и говорит: «Папа, папа, и когда ты возьмешься за ум?» Мы и впрямь как три брата. Только младший меня беспокоит. Эти вечные книги. Достоевский, «Время любви», Вайнингер, Уэллс, Матье, Фолкнер, Сартр, романизированные биографии, все, что находит в моей библиотеке, Стендаль, Геродот, это в пятнадцать лет, а по языку в школе тройка. Тебе это понятно? Раз в три дня на каких-нибудь полчаса он снова становится ребенком, тогда мы играем в салочки или в расшибалку, а потом опять зарывается в газеты и журналы.
Вот, дьявол, по щиколотку в грязи. Черт возьми, в век автоматизации и электрификации совсем забыли про лопату. Мы изображали весьма забавную пантомиму в холодной луже, вода забиралась в ботинки. Едва выбравшись из одной лужи, мы почти тут же попали в другую, тщательно замаскированную тонким слоем снега. Вода окончательно залила ботинки. Теперь уж было все равно, и мы, покорные судьбе, неторопливо шлепали по воде. В какой-то момент мы переглянулись. Ни тени патриотизма не было в наших глазах. И тут я услышал смех, смех молодых, здоровых легких. Неподалеку от нас стояли два парня. Может быть, это и в самом деле смешно. Все зависит от того, бултыхаешься ли ты в воде или смотришь, как это проделывает другой. На углу мы с Амоном попрощались и разошлись. Скорей домой, скорей в сухие носки.
На слякоть я теперь не обращал внимания. Коли ноги мокрые, не все ли равно, лужей больше или меньше. Мимо прошла машина. Немного обогнав меня, она подкатила к тротуару и резко затормозила. Из нее с разных сторон выскочили две фигуры. Одна из них сразу преградила мне дорогу. Молодой человек в пуловере.
— Вы господин Берк?
— Да, Берк. В чем дело?
— Ваша дочь Эла просит вас немедленно приехать.
— Эла? Что с ней?
— Садитесь, пожалуйста, в машину.
— Эла? Где она?
— Пожалуйста, садитесь, все узнаете по дороге.
— Эла?
— Пожалуйста.
Вспоминая теперь его голос, я с удивлением думаю, почему металлический звук этого «пожалуйста» не насторожил меня — ведь в нем не было вежливой просьбы, это был нетерпеливый приказ. Я залез в фольксваген. Обе фигуры тоже уселись в машину. Рядом со мной на заднем сиденье оказался еще один парень.
— Что с Элой?
Машина рывком тронулась. Парень впереди и тот, что сидел рядом, повернулись ко мне. В руках они что-то держали. Какие-то склянки?
— В чем дело?
Шофер низко склонился над рулем, машина на большой скорости с воем срезала угол.
— Сидите спокойно, Берк, — сказал мой сосед. — В этом пузырьке соляная кислота. Если только шевельнетесь, я плесну ее вам в лицо. А что это такое, вы хорошо знаете из романа, который переводите.
— Что вам надо? Кто вы такие? Что с Элой?
— Скоро все поймете. Вы поедете с нами. Будете вести себя благоразумно, с вами ничего не случится. А если… — Он выругался хриплым голосом, привстал в машине, коснувшись головой верха и направил на меня откупоренную бутылку. Разумеется, я хорошо знал, что такое соляная кислота.