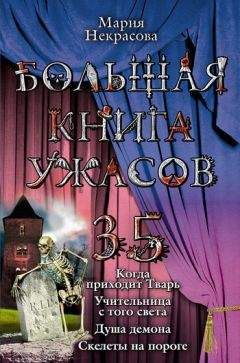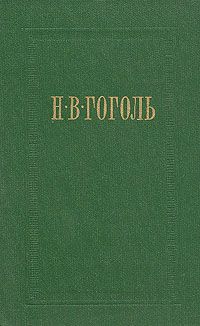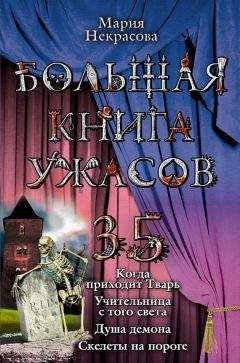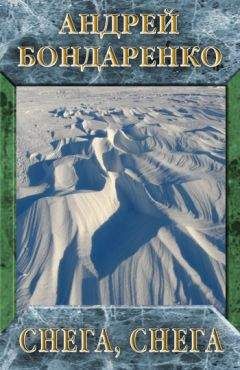Василь Ткачев - Дом коммуны
Когда наплакались, Мордух Смолкин вздохнул, встал и, ничего не сказав, потянулся на квартиру — надо записать этим людям адрес, по которому они должны отправиться. Чтобы не бродили зря по белу свету. А вручая бумажку, наказывал:
— Примут как своих. Верь мне, Мордуху Смолкину. Только скажи, от кого пожаловал, и вы будете приняты, хорошие люди!
А старик Грицко, прощаясь, подарил Мордуху Смолкину аккуратненькую шкатулку с замочком. Выделялись на ней и простенькие узоры, сделанные, очевидно, карманным ножиком, от чего шкатулка имела весьма привлекательный вид.
— Это — вам, — протянул подарок старик Грицко.
Мордух Смолкин хотел сперва схватить ее, будто раскаленный уголек голыми руками, — быстро, в одно мгновение, однако тут же отшатнулся:
— Мне? За что? Это ему, Богу, надо давать. Его Величеству! — и он ткнул пальцем вверх.
— Возьмите, дядя, — впервые подал голос мальчик, и Мордух Смолкин аж передернул от неожиданности плечами — испугался, не иначе. — Берите. Хлеб вкусный...
— О, за хлеб! Так вам же не будет больше чего давать потом, — развел руками старый еврей. — Вы это учли, а? Ах, какая коробочка! Ах, какая!..
Ему не ответили.
— А напрасно. Вот в Гуте, около Журавичей, деревушка есть такая, зайдете к Якову Тарасову. Когда я бывал у него, он всегда меня усаживал за стол... под иконами, и сытно угощал. Яков так не отпустит. И — верите? — Мордух Смолкин за доброту платил тем же — добротой, да-да: за ласку лаской. Когда его молодица, Пелагея, в том году ходила в Киев в церковь, то ночевала вместе с другими женщинами у меня. Передай ей, пускай еще заходит. Мордух Смолкин помнит!.. А коробочку я возьму, так и быть. Уговорили. Знаете, зачем она мне? Нет, не догадываетесь, вижу. Пленил меня замочек. Положил что ценное, щелк — и порядок! А наш Хиня на юриста учится, то будет иметь дело с документами, и ему будет где их держать. Аж в Ленинграде Хиня. Сара умерла, а он, подскребыш, не успел... чтобы проводить ее, Сару, в последний путь... Неслух! Говорил, учись где поближе, а он — мне в колыбель надо... Хиня этот не мой сын. Я бездетный. Но парень послушный, будто его отец — это я, Мордух Смолкин, и есть. Ну, счастливо вам, хорошие люди! На обратной дороге жду!..
Как раз в тот же день, когда во дворе Дома коммуны встречал и провожал одновременно словоохотливый Мордух Смолкин старика Грицко и его внука Егорку, ставили самодеятельные артисты спектакль, во время которого и погиб режиссер и исполнитель одной из главных ролей Корольчук. А чуть позже вернулся из Ленинграда Хиня, и ему передали то судебное дело — об убийстве на сцене. Мордух Смолкин почти каждому встречному, придерживая того, как правило, за уголок рубашки или просто беря под локоть и отводя немножко в сторонку, словно хотел поведать какую-то большую тайну, полушепотом, но выразительно, с акцентом говорил:
— И вы думаете, они ошиблись, когда доверили вести судебное дело моему Хине об убийстве в нашем театре того артиста? Ни на грамм! Ни на!.. Да-да, товарищ! Если кому и можно было доверить, то конечно же — Хине! Не забыли, помните, где учился мой сын? В Ленинграде! По тем улицам ходил сам Ленин и тот негодяй Троцкий, который, хотя и еврей, а, мне кажется, — плохой, никудышный был человек!.. А мне также кажется, я здесь не буду оригиналом, что и Ленин... Хотя, кто признается? Владимир Ильич? Если я Мордух Израилевич — то сразу видно, кто есть кто. Правильно? Ну да, конечно же!.. А Хиня вам выведет на чистую воду всех, кто причастен к убийству. И как вы тогда мне будете в глаза смотреть? С какой завистью и сожалением, что Хиня не ваш сын? А может, и правильно, что поехал он в Ленинград учиться. Хиня знает, где надо постигать науку!..
Где-то здесь поблизости и Америка. Своя, конечно же, местная. Иной раз люди настолько точно дадут человеку кличку, или, как вот в нашем случае, — району, улице, что диву даешься: настолько это метко, в самую точку! Америка — еще один район старого города. Поблизости все — и железнодорожный вокзал, и центральные улицы. Еще в начале века люди устраивались на работу в кузницы, на лесопилки, в швейные и сапожные мастерские, а также на завод Фрумина (с 1934 года — завод имени С. Кирова) и в Либаво-Роменские мастерские (вагоноремонтный завод). А Америка, видимо, потому, что заселяли этот район ремесленники и рабочие. Так, как когда-то люди со всего света заселяли настоящую Америку. Со всех концов съезжались в одно место.
Между прочим, на углу теперешней улицы Интернациональной и проспекта Ленина, по правую сторону, стоял двухэтажный частный дом, и его хозяин обычно сидел с чашкой чая на балконе и наблюдал за городской суетой. (Примерно на том месте сегодня сидит губернатор...) Иной раз тот кого-то приветствовал взмахом руки, случалось, приподнимался, отбивал поклон, а кое-когда угрожал кому-то пальцем:
— Я те покажу, где раки зимуют, крутель!..
А потом начнется война, и на город полетят вражеские бомбы; и Америка, и Свисток, и железнодорожный вокзал, и Дом коммуны содрогнутся от взрывов, пошатнутся сперва немного, а потом, отправив своих защитников на фронт, будут жить так, как и положено им было жить на оккупированной территории...
Хиня прибежит домой, передаст Мордуху Смолкину ту шкатулочку, попросит, чтобы спрятал надежно, так, чтобы она никому не досталась. Ни своим, ни чужим.
— Наш архив эвакуировали, а ... это вот все, что осталось... мое. Сбереги, отец! — Хиня впервые назовет Мордуха Смолкина своим отцом и обнимет его как самого родного человека. — Ну, прощай!..
И побежал, только были слышны его шаги на лестнице, а потом из окна старик видел, как он пробежал по двору и скрылся за углом.
Шкатулку Мордух Смолкин спрятал, как и просил Хиня. Замуровывая ее в стену Дома коммуны, где имелась небольшая ячейка, как будто для шкатулки и была сделана, он сопел, кряхтел, мысленно обращаясь к сыну, который, может быть, находился где-то уже на войне: «Ты, Хиня, знаешь, золотая твоя голова, что спрятать надежно шкатулку или еще какую дребедень здесь во всем этом доме может один человек... Не стану терять времени, чтобы тебе его назвать. Ты и так знаешь. Не глуп. Лишь бы кого в Ленинград не возьмут учиться, там своих революционеров хватает, аж в избытке, поди. Замурую, надо ли говорить! Молодец, отцом назвал... А то все юлил... и отец и не отец... А вернешься с войны, Хиня, — пожалуйста, вот она, твоя шкатулка!»
Мордух Смолкин наконец замуровал шкатулку, сверху приспособил кусок обоев, тот самый, что оторвался, отошел чуток от схрона, склонил на бок голову, и был он грустный и радостный — одновременно:
— Эх, Сара, Сара!.. Ты вот и не знаешь, что война началась, а Хиня меня отцом назвал. И надо тебе было убраться, чтобы самым близким человеком у него остался я?.. Ты слышишь меня, Сара?..
Раздел 22. Пейзаж с обнаженной женщиной
Художник Антон Жигало носил шикарную седую бороду, за которой почти никогда не ухаживал, однако она почему-то всегда имела привлекательный вид: другим даже казалось, что его борода как выросла однажды, на том и остановилась, ее не надо было регулярно подстригать. У Жигалы мягкое и нежное лицо, красивые голубые глаза, пронизывающие и с характерным блеском: как бы ненасытные, жаждущие и страстные, и многим казалось, что у женщин он пользуется несравненным успехом. Борода, голубые глаза, умение мастерски плести паутину из красивых и нужных слов... Да и фигура, как у атланта. Однако ж нет: Антон Жигало любил только свою Лариску, с которой у них на двоих была сначала единственная дочь, а теперь вот и внук, Лешка. Бывает, что тот приходит с кем-нибудь со взрослых в мастерскую к дедушке (а чаще дед берет сам его за руку и приводит, гордо вышагивая по тротуару), долго топает тогда малыш по ступенькам, потом идет по очень длинному коридору, и, наконец, вот она, дедушкина работа. А одолев дорогу, прильнет щекой к ноге Жигалы, вздохнет, как взрослый:
— И высоко же ты, дедушка! Под самым небом!..
Про небо это он правильно, пострел. Высоко, так и есть. Может быть, кому и покажется, что нет, тогда он ошибается: а где же еще Антон Жигало, как не там? Как не на высоте? В прямом и переносном смысле! Уже хотя б мастерскую взять — с того времени, как досталась она ему после неожиданной смерти Бобровского, в Доме коммуны и вообще выше места нет. Если учесть, что на крыше никто не живет. Но крыша — не в счет. Да и так добился уже многого в жизни, о-го! Член Союза художников — это же разве плохо? Рисует много кто, а признают не всех. Его увидели, заметили. Хотя смешно так рассуждать: увидели, заметили. Кто увидит, кто заметит, когда сам себя не поднесешь, не постучишь в нужную дверь и в нужное время! Антон Жигало это понял сразу, когда окунулся, словно в водоворот, с головой в мир искусства. Он сразу взял себе за правило всегда, в любых ситуациях быть на виду. Чихнул — скажи, что это ты. Не стесняйся. Застрянь в чьей-то памяти. Ну, а когда что-то получится похожее на настоящее произведение искусства, тогда с этим надо носиться, как дурак с писаной торбой.