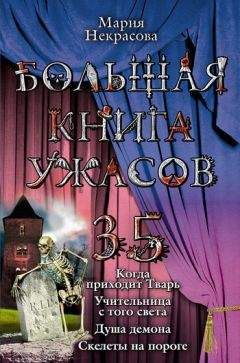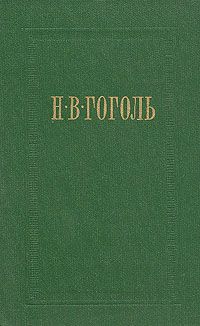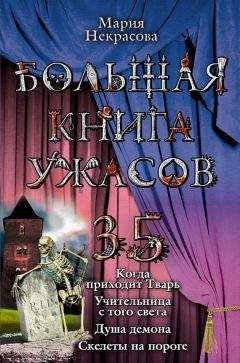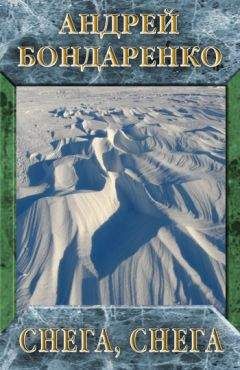Василь Ткачев - Дом коммуны
Тогда он видел Титыча последний раз.
И постепенно люди забыли о неприкаянной душе.
Часть вторая. ЖИЗНЬ - ТЕАТР, ТЕАТР - ЖИЗНЬ
Раздел 21. Улей и пчелы
...У людей есть на первый взгляд простой и неотъемлемый, жизненно необходимый, утвердившийся обычай, который ведется от наших пращуров с далеких времен: когда рождается человек, ему обязательно дают имя. Каждому свое. Ни птицы, ни звери не имеют его. Дома же имеют номер и улицу, на которой стоят. Бывают, правда, исключения, но весьма редко. И самый яркий пример такого обстоятельства — Дом коммуны. А действительно, где еще в городе есть дом, который мог бы похвастаться такой вот своей метрической карточкой? Вряд ли найдете. Дом и дом. А здесь — коммуны. Он и предполагался, задумывался, что под его крышей будут жить люди почти как в том пчелином улье. Семья же, припомним, медоносных пчел представляет собой сложный механизм, она создается из нескольких тысяч пчел, связанных между собой в одно целое. Благодаря этому единству пчелы одной семьей могут поддерживать в своем жилище необходимую температуру, успешно защищать его от врагов, собирать много меда.
Не о такой ли вот сладкой — медовой! — жизни и думали наши предки, когда создавали этот Дом. Он, по крайней мере, много чего повидал на своем веку. Когда еще был «ребенком» этот Дом, во дворе появился старый человек, одет был в лохмотья; устало переваливаясь из стороны в сторону, тот катил перед собой коляску на двух деревянных колесах, а посреди — только голова торчком — сидел совсем маленький и беззаботный, если со стороны понаблюдать, белобрысый мальчуган Егорка. Вез его в самодельной коляске дедушка Грицко, вез и приговаривал: «Мир не без добрых людей, внучок... Мир не без добрых людей, Егорка... Они помогут нам... И когда ты вырастешь, то отблагодаришь хороших людей, я не смогу, меня, видно, скоро не станет, а тебе — жить... Запомни это, внучок...» Егорка слушал дедушку и ничего не отвечал, а только размазывал кулачком соленые слезы по щекам и всхлипывал, всхлипывал... ему очень хотелось есть. Давно они уже так едут — от деревни к деревне, от города к городу... Давно. Был день, была ночь, опять день, опять — ночь... А они все едут и едут. И наконец — настоящий город, и какой красивый дом! Дедушка Грицко нутром почуял, что здесь, в этом доме, им помогут, не дадут умереть.
— Ге-ге-ге-е-й! — приложил дедушка Грицко руки ко роту, позвал, надеясь, что кто-нибудь обратит на них внимание.— Ге-ге-ге-е-й!..
Не ошибся старик Грицко — его услышали. В окнах кое-где показались лица людей, кто с состраданием, болью и горечью смотрел на старика с мальчиком, кто уже спешил во двор — чтобы дать голодным людям хоть маленький, но кусочек хлеба, и вместе с тем кусочком надежду — ты будешь жить, Егорка!..
С того времени, как у соседей в Украине начался голод, это уже не первые люди, которые появились во дворе Дома коммуны, словно чуя сердцем, что тут помогут им, не оставят в беде.
Старик Мордух Смолкин также видел, как перед его окнами остановился седой дед с коляской и ребенком в ней; сперва он подумал, что это какая-то игрушка, не иначе, но позже, когда малыш начал вертеть головой по сторонам, догадался: так и есть, очередной нищий, на этот раз не один... Пока спустился по ступенькам во двор, успел отругать того непутевого, на его взгляд, старика, который посмел тащить в белый свет младенца: «Это если б моя Сара была жива, у нее б сердечный приступ случился, и не возражайте мне, Мордуху: разве ж нормальный человек вытерпит все эти страдания, что выпали на этого мальца-гольца! Хорошо, что тебя, Сара, и нет с нами — ты бы не выдержала, увидев эти безобразия, ты бы умерла снова!.. Но — подожди, подожди, не торопись, стало быть!.. Однако ж с малышом, может, скорее пожалеют, здесь логика есть, так тогда, получается, напрасно я плохо подумал про хорошего, по всему видно, человека? Если надо, Мордух Смолкин извинится, и ему не откажут в уважении и сострадании... Ему простят, а как же!.. Кто ж не ошибается в наше время прогресса!..»
К нищим первым и подошел он, Мордух Смолкин. Отбил поклон, для чего придержал на темени кипу, что-то невнятное прошептал, да настолько тихо и неразборчиво, что старик Грицко его не расслышал, а Егорка был в таком состоянии, что почти не реагировал на происходящее вокруг.
— И если на нашем дворе солнце будет светить и завтра так, как сегодня, — ярко и жарко, тогда мы сможем сделать пользу для каждого человека, изведавшего голод и заплутавшего в длинном коридоре, из которого не видно выхода, — перекрестился Мордух Смолкин, высоко задрав голову на небо, опять придержав кипу растопыренной пятерней. — Помоги, Боже, горемычным людям! Спаси их! Они пришли к нам за помощью, но под нами видели тебя, и ты не должен их обидеть. Я понимаю, да-да, ты прав, ведь если кто и есть здравый в этом мире, то это ты и еще один человек, его все и так знают — ат, разве ж теперь время, когда людям тяжело, когда люди страдают и нужна им твоя помощь, почтенный и благороднейший наш повелитель об этом говорить! — Мордух обозначил себя щепотью из трех пальцев, как-то виновато и совестливо улыбнулся Богу, которого, показалось, он хорошо видел где-то на облаках, и затем только посмотрел на старого и несчастного Грицко: — Он поможет вам, Бог. Он не оставит в беде. Но терпение, товарищи, и еще раз терпение... Так Бог велел.
Пока Мордух Смолкин разговаривал с гостями, их обступили, взяв в кольцо, несколько женщин, подошел и мужчина на костылях, суровый с виду, но только с виду, однако уже через некоторое время он шмыгал носом и глотал слезы. А два мальчугана щупали потрескавшимися руками колеса коляски — проверяли на прочность и надежность, а может быть, и просто восхищались этим самодельным творением, ведь такое чудо каждый из них видел впервые. Кто-то принес и протянул голодающим ломоть хлеба, кто-то несколько картофелин, а тот инвалид-плакса — копченую рыбину.
Мордух Смолкин едва успевал следить за каждым движением подающих, а после того, как старик Грицко принимал очередное приношение и склонял голову к земле, стремился заглянуть тому в глаза:
— А я что тебе говорил, почтенный Грицко? — Он уже успел познакомиться с ним. — Бог услышит и выручит, потому что нет такого Бога, который бы не услышал Мордуха Смолкина. Или, скажешь, есть? Может, где и имеется, да только не у нас. У нас Бог хороший. Да-да, с сострадающим сердцем и мягкой, понимающей душой. О Боже, как тяжело жить на свете, и особенно, когда некому положить голову на колени и никто тебя не погладит по голове! А так хочется, чтобы тебя иной раз погладили!.. Так хочется!.. А моя Сара взяла и умерла!.. Ну, и как я к ней теперь должен относиться?!.. Кто мне скажет?... Какой Бог?.. Оставить бедного Мордуха одного!..
И как только услышал старый хохол Грицко такие утешительные слова от этого, по всему видно, хорошего и доброго еврея, он растрогался и заплакал. Стоял и дергался всем своим уставшим костлявым телом, а слез будто и не замечал: те струились тоненькими ручейками по старческому, испещренному морщинами лицу.
Вскоре Мордух Смолкин помог старику Грицко сесть на скамейку, усадил рядышком Егорку, тот грыз хлеб и молчал, и наконец сел тоже.
— Теперь и я могу посидеть, когда сидят мои друзья, — тихо промолвил он. — Посидите. Отдохните. И куда же вы, если нет у вас для Мордуха Смолкина секрета, путь держите, друзи?
Старик Грицко говорил на красивом украинском языке, но Мордух Смолкин и сам, конечно же, давно знал, что он идет туда, где не дадут ему и внуку Егорке умереть с голоду. Если есть где на этой большой — глазами и душой не обнять — земле такое место. Они убегают от голода, а это значит — от смерти. Чем дальше от нее, косой, тем надежнее!..
— Тогда вот что, друзья мои, — задергался на скамейке Мордух Смолкин.— Не задерживайтесь. Я дам вам надежный адрес. Я не городской сам, Боже упаси, это меня Сара сюда привезла, а сама — ну что ты скажешь ей! — взяла и померла... Ах, Сара, Сара, что же ты наделала, светлая твоя душа!.. Я в Журавичах жил все время, работал кузнецом и еще много кем. В Журавичах на меня не лаают собаки и молятся люди. Я уверен, что если бы вернулся туда хоть сегодня, но я еще не спятил совсем, чтобы вернуться, то меня бы на руках носили: Мордух Смолкин вернулся, ура-а!. Посмотрите, кто явился!... Но мне уже тяжело в кузнице... А здесь дом. Квартира. Вы не были еще у меня? Не гостили? Тогда ничего — будете назад возвращаться, и заходите, и заглядывайте, я специально по такому поводу приготовлю вкусный обед... И мы вместе насладимся! Я уже теперь слышу тот запах, тот аромат!.. Какая это будет вкуснятина!.. Ты что, старик Грицко, все еще плачешь? Ну, не надо, умоляю тебя. Брось поганое дело. Мордух Смолкин не любит, когда кто-то сидит рядом с ним и льет слезы, как бобр. Что люди подумают? Люди подумают, что это я, Мордух Смолкин, довел до слез такого хорошего человека. Молю тебя: не надо. Ты не перестаешь плакать? Ай-я-яй! Ну, вот видишь, и у меня слезы близко, оказывается, я также негодник! — И Мордух Смолкин сперва зашмыгал носом, а потом по-настоящему заплакал, и тогда он положил руку на костлявое плечо старому Грицко, и они оба плакали, поочередно всхлипывая. Только маленький Егорка сосал хлеб — он боялся, что будут падать крошки на землю, потому и сосал, подставив ладошку одной ручки ковшиком под подбородком...