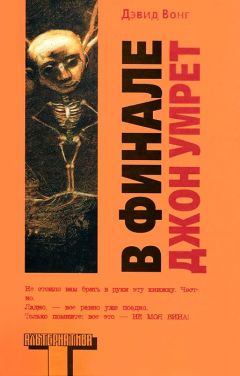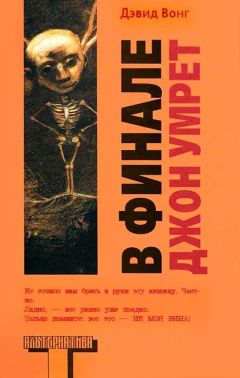Александр Любинский - Виноградники ночи
— Пожалуйста!
Марк подвинулся и настоятель сел рядом. Он обладал несомненной способностью заполнять собою все пространство.
— Как вам у нас? Нравится?
— Тихо… И, как будто, никого нет.
— К сожалению, кроме меня, в обители осталось всего трое братьев. Да и эти кормятся с трудом. Скудное и тяжелое время…
— Вот что… Я хотел сказать… — Марк провел рукой по лбу, — не нужно звать эту девушку… Она может не прийти. Да и незачем ей приходить…
— Как хотите. Конечно, это не мое дело, но мне кажется, вы устали. Отдохните. Тогда и ясность мысли восстановится. Может быть, вам пора уехать из города? Вы ведь вполне уже в курсе местных дел…
Помолчали.
— Странно. Как это все… — проговорил Марк, — и оборвал.
— Что?
— Странно все это… Приезжаешь сюда и, словно, попадаешь в трясину. Засасывает.
Настоятель склонил голову. Тронул крест на груди.
— Я вас вполне понимаю. Очень напряженные здесь отношения. И ловят они человека как в сеть.
— Но ведь должно быть наоборот! Если это место и впрямь свято, оно должно возвышать и очищать. А тут…
— Да. Война всех со всеми. Что поделать… У каждого — свое представление о Господе. И всякий думает, что лишь он прав.
— Бросьте! Всех интересуют лишь деньги и власть!
— Вы ошибаетесь… Если бы дело было лишь в этом, церкви давно бы не существовало. Загадочен наш приход в этот мир. Загадочен уход. И церковь приемлет тайну эту на свои плечи. Огромна ее тяжесть. И за то, что она снимает ее с плеч миллионов людей, разве не нужно ей платить? Ведь церковь — организация, и как и всякая организация, она нуждается в средствах. Никто не совершенен. И церковь объединяет людей, а не духов святых. И все же я думаю, что без церкви мир был бы еще страшней…
— Но у каждого народа — своя вера! И веры эти безжалостно воюют друг с другом! Даже в рамках одной веры нет согласия!
— Все проходит. Когда-нибудь пройдет и это… Каждый народ — живой организм. Живая личность. И утверждает себя по-своему. У каждого — свой путь к Богу. Только бы помнили, что Господь наш — Один, и какому бы образу Его ни молились, мы молимся лишь ему, Единому, Одному!
— Признаться, я мало думал о таких вещах, пока не втянулся… в эту воронку, или — как вы сказали — был пойман в сеть?
Настоятель поднялся.
— Вы молоды. У вас есть силы. Дай-то Господь, чтобы они не были растрачены зря… Вы можете уйти, когда захотите. И когда захотите, вернуться.
— Спасибо.
— И не забудьте свой пистолет!
Водитель высадил ее возле Старого города. Это был последний автобус, хорошо, что успела. Она пошла по ночной Яффо мимо почты, свернула в проулок, ведущий к Невиим. Возле полицейского управления стоял патруль. Ярко горела лампа над входом. А дальше была тьма, сгустившаяся вокруг тусклого фонаря рядом с собором — едва различимой громадой он проступал из черноты. Как это непонятно! Люди приходят и уходят. Вот, нет отца Феодора, а всего час назад не стало Христи. И ее, Мины, глядящей на собор и звезды над ним, ощущающей вот эту ночь, этот прохладный воздух — ее тоже когда-нибудь не будет. А собор останется. И эта площадь. И уже кто-то другой приостановится здесь и станет думать о том же.
По переулку мимо Сергиева подворья она прошла на Невиим к дому, открыла калитку в железных воротах… Все было как всегда. Как и полвека назад. И еще через полвека дом будет все тот же. Может, лишь обветшают ставни да на каменных ступенях, восходящих к площадке двора, появятся несколько трещин. Таких маленьких, что никто их не заметит.
Она обогнула дом, вошла через запасной вход, спустилась в комнату Христи. Зажгла лампочку под низким потолком. Светил огонек в углу, и в душном воздухе тошнотворно-сладко пахло лампадным маслом. Мина открыла створку оконца. Ворвался ночной воздух, на мгновенье закружилась голова. Отпрянула, прислонилась к стене… Завтра надо будет все это прибрать. Вынести. Выбросить… Сейчас нет сил. И ничего уже не останется от Христи… Нет, все же родился мальчик. Слава Богу, не от Залмана. И он будет там, где ему положено быть — на попечении монашек, в монастыре. Я хочу умереть! — сказала, и умерла. Как странно!
Свет лампады дрожал от воздуха, проникавшего в окно, и показалось на мгновенье Мине, что лицо женщины на иконе с ребенком на руках подрагивает, словно живое, и вот-вот в ее несоразмерно больших глазах выступят слезы. Да нет же! Это пляшет огонек лампады…
Наверху послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице. И вот уже возникла Ребекка в пушистом, перехваченном пояском халате. Остановилась, вопросительно взглянула на сестру…
— Все кончено, — сказала Мина. — Христи больше нет… Нужно было срочно делать кесарево сеченье, но в больнице, а не в монастыре.
— При чем здесь монастырь?
— Она отказывалась ехать в больницу. И мы поехали в Эйн-Карем.
— Полная нелепость!
— Все говорила, что хочет умереть, потому что согрешила… Твердила, что это она убила отца Феодора… И про те самые бумаги, которые он ей передал… Сказала, что перепрятала их в его доме.
— Погоди, погоди, значит, это она его порешила?… Забавно!
Склонив головку к плечу, Ребекка внимательно оглядывала комнату.
— Не вижу ничего забавного, — раздраженно проговорила Мина, но Ребекка уже шагнула к шкафчику рядом с кроватью и распахнула его, посыпались на пол лифчики и штаны, застиранные полотенца, желтые наволочки и простыни…
— Что ты делаешь? — закричала Мина, но Ребекка, не слушая ее, продолжала выгребать содержимое шкафа.
— Да нет же здесь ничего! Она сказала, что отнесла бумаги в дом отца Феодора!
— Отнесла, как же! — торжествующе проговорила Ребекка и выпрямилась. — Видишь?
Рука ее сжимала листок бумаги.
— Что это?
Мина шагнула к сестре…
— Вы знаете, который час?!
В проеме двери стоял Залман в своей полосатой пижаме.
— Христя умерла… Во время родов, — сказала Мина.
Ссутулился, словно уменьшился в росте.
— А ребенок?
— Жив. Остался в монастыре.
— В монастыре?
— Твоя фанатичка не захотела ехать в больницу! — вскрикнула Ребекка.
— Моя, моя…
— Успокойся, ребенок не твой, а этого. Феодора!
— Не надо кричать… Прошу вас, — сказала Мина и устало опустилась на кровать.
— Ты еще смеешь меня хоть в чем-то обвинять! — Залман шагнул к Ребекке. — Думаешь, я не догадался, чем ты занимаешься, почему вертишься среди англичан? Да из-за тебя и таких как ты у нас никогда не будет своего государства! Это ты фанатичка! Ты готова пожертвовать всем — нашим домом, нашим спокойствием ради того, чтобы хоть что-нибудь взорвать, кого-нибудь да убить! Ты и твои друзья — хладнокровные убийцы, и вас надо судить как убийц!
Оскалилась, отпрянула к окну.
— Дурак, — сказала тихо. — Благодаря нам англичане уберутся отсюда. Мы их вынуждаем уйти. А ваши разговоры лишь затягивают дело.
— Когда мы придем к власти, мы будем вас судить!
— Как бы не так.
— Уймитесь! — сказала Мина и встала. — Вы думаете о будущем. Кричите о будущем, которое, возможно, и не настанет!
В тишине — цокот копыт по камням, стук ставни. Шебуршанье ветра в древесных кронах.
— Не с кем разговаривать, — проговорил Залман, повернулся, стал медленно подыматься по лестнице. Узкая спина, обтянутая пижамой. На темени — серый хохолок.
— А он постарел. Сколько ему уже? Шестьдесят? — проговорила Мина.
— Пятьдесят девять. Он старший из нас, — отвечала рассеянно Ребекка, вглядываясь в лист бумаги.
— Что там?
— Какие-то цифры… Видишь, какой мятый лист? Наверно, случайно завалился за белье… Прошу тебя, не говори ничего Залману, ладно? В последнее время он и так весь на нервах.
— Меня не интересуют ваши дела.
— Иди спать. Завтра приберем, — сказала Ребекка и вышла из комнаты.
Мина потушила лампу; встав на пороге, обернулась: рассвет проникал в оконце, окрашивая стены в серый цвет. Подрагивал догорающий огонек, и женского лика на иконе уже не было видно.
После путешествия возвращаешься к себе. Всегда возвращаешься к себе. К своим воспоминаниям, своей боли, которую ты перекладываешь как груз, на плечи других. Выдуманных, восхищенных тобой. Почему Господь сотворил мир? Почему вдохнул жизнь в гончарную глину? Теперь я знаю: ему было больно.
Сочится в окно утренний свет, вдали проступают очертания гор. И что я выдумал несуразность такую? Никуда эти горы не идут. Они окружают меня, надвигаются, теснят. Я здесь лишний. Я не нужен… Они знают лучше меня, что через несколько лет я сам лягу в этот камень, стану — им. Как сказал мой знакомец с Эмек Рефаим? Это надо не понять, а принять…
Вчера я видел по телевизору Руди. Давно его не показывали — с тех пор, как он отошел от дел, проиграв на выборах самоуверенному, скользкому как мокрица, адвокату. Он очень постарел. Кожа обвисла на скулах, покрылась пигментными пятнами. И весь он сморщился и обвис, словно жизнь стала слишком просторным платьем — таким просторным, что и не удержишь — вот-вот соскользнет с тощих плеч.